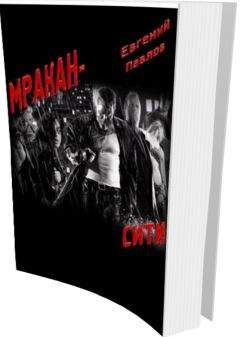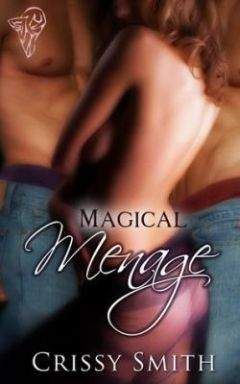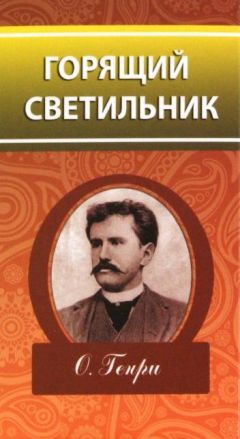Жорж Сименон - Письмо следователю
И как ни парадоксально, она чувствовала себя униженной этим, страдала от этого.
В ту минуту, когда мы уже сели, а музыканты еще наигрывали прилипчивую мелодию, заказанную Мартиной, она неожиданно вонзила ногти мне в бедро.
Выпили мы много, не помню уж сколько. Под конец из посетителей остались только мы, и официанты ждали, когда же мы уйдем — им пора было закрывать. Кончилось тем, что нас вежливо выставили за дверь.
Был третий час ночи. Ночевать с подружкой в «Герцоге Бретонском» мне было не с руки: в этой гостинице меня знали — я иногда останавливался там с Армандой и дочерьми.
— Как ты думаешь, нас еще куда-нибудь пустят?
— Разве что в припортовый кабак.
— Едем.
Мы взяли такси — искать его пришлось долго. В темной машине Мартина разом прильнула к моим губам, не влюбленно, но с судорожной нежностью. Не оттолкнула руку, которую я положил ей на бедро, и я сквозь мокрую одежду почувствовал, как пылает моя худенькая спутница.
Все произошло, как всегда в подобных случаях. Большинство кабачков, куда мы наведались, были уже закрыты или закрывались у нас перед носом. Мы попали в дешевый, мрачный, еле освещенный дансинг, и я увидел, как дрогнули ноздри Мартины: все мужчины уставились на нее, и ей, разумеется, померещилась опасность.
— Потанцуем?
Все в ней бросало вызов — взгляд, приоткрытый рот, бедра, которые она все плотнее прижимала к моим: воображала, будто ее томит желание.
Нам подали тошнотворное дрянное пойло. Мне не терпелось уйти, но я не осмеливался, предвидя, что подумает Мартина.
В конце концов мы очутились во второклассной, вернее заурядной, гостинице, банальной и неказистой, где еще горел свет, и ночной портье, протянув руку к доске с ключами, на всякий случай осведомился:
— Двуспальный номер?
Мартина промолчала. Я не ответил, но распорядился разбудить нас без четверти шесть. Вещей у меня не было.
Багаж моей спутницы тоже остался в камере хранения: мы не дали себе труда заехать за ним на вокзал.
Когда я запер двери, она сказала:
— Спать будем порознь, ладно?
Я обещал. Твердо обещал. В номере была крошечная ванная, и Мартина первой устремилась туда, бросив на ходу:
— Вы ложитесь.
Я слышал, как она расхаживает взад и вперед, открывает и закрывает краны, и во мне внезапно родилось ощущение близости. Да, близости, которой — поверьте, господин следователь — у меня никогда не было с Армандой.
Не помню, отрезвел ли я. Вряд ли. Я разделся и нырнул под простыню. Мартина все не возвращалась, и я, полагая, что ей опять нехорошо, громко спросил:
— Как дела?
— Ничего, — ответила она. — Вы легли?
— Да.
— Иду.
Чтобы не смущать ее, я выключил в комнате электричество. Когда дверь ванной распахнулась, свет падал на Мартину только сзади.
Она показалась мне еще более худой и маленькой.
Совершенно обнаженная, она прикрывалась полотенцем, но — должен это признать — не из показной стыдливости, а как-то удивительно естественно.
Она повернулась, ища выключатель, и я увидел ее голую спину, выступающий позвоночник и узкую талию; бедра, напротив, оказались шире, чем я предполагал.
Такой она навсегда осталась у меня в памяти. Мне подумалось что-то вроде: «Бедная девочка…»
Я услышал, как она в темноте ощупью добралась до кровати, легла и ласково прошептала:
— Спокойной ночи.
Потом добавила:
— Правда, спать нам недолго. Который час?
— Не знаю… Погодите, сейчас зажгу свет.
Я выпростал из-под одеяла руку: мои часы лежали на ночном столике.
— Половина четвертого.
Я видел ее волосы, разметавшиеся по яркой белизне подушки. Видел контуры ее свернувшегося калачиком тела. Заметил даже сквозь одеяло, что, как многие девочки, она засыпала, засунув руки между ляжками, поближе к сокровенному теплу своего лона. И повторил:
— Спокойной ночи.
— Спокойной ночи.
Я погасил свет, но мы так и не заснули. Несколько раз за четверть часа она со вздохом переворачивалась с боку на бок.
Клянусь, господин следователь, ни о чем таком я не думал. Был даже момент, когда я задремал и вот-вот готов был погрузиться в сон.
Вдруг меня словно подбросило, я вскочил и шагнул к соседней постели. Зарылся лицом, губами в темную шевелюру и пробормотал:
— Мартина…
Допускаю, что первой ее мыслью было оттолкнуть меня. Мы не видели друг друга. Мы оба ослепли.
Я отшвырнул одеяло. Как в бреду, не рассуждая, не думая, не сознавая, что со мной, я внезапно овладел ею.
И в ту же секунду на меня как бы снизошло озарение: мне почудилось, что я впервые в жизни обладаю женщиной.
Я уже писал, что любил ее неистово. Любил разом все ее тело, воспринимая малейшую его дрожь. Наши губы слились в одно, и я с какой-то яростью силился вобрать в себя эту плоть, к которой несколькими минутами раньше был почти равнодушен.
Она опять вся трепетала, как тогда, в красном кабаре, только еще сильней. И я разделял с нею даже ее таинственную тревогу, которую тщетно пытался понять.
Очутись мы с вами с глазу на глаз, господин следователь, я рассказал бы вам, только вам, все в подробностях, и не счел бы это неприличным. В письме же такая откровенность выглядела бы смакованием эротических моментов.
Ничего подобного у меня в мыслях нет! У вас никогда не было ощущения, что вы вот-вот выйдете за рамки доступного человеку?
В ту ночь я это испытал. Казалось, стоит мне захотеть, и я, пробив некие преграды, вырвусь в неведомые просторы.
А нараставшая в ней тревога… Как врач, я мог объяснить это только желанием, подобным моему…
Я человек степенный и, как принято говорить, порядочный. У меня жена и дети. Прежде, когда мне случалось искать любви или наслаждения на стороне, я рисковал лишь тем, что осложню свою семейную жизнь. Вы понимаете меня, не правда ли?
А с этой женщиной, с которой был знаком всего несколько часов, я, сам того не сознавая, вел себя как неистовый любовник, как дикое животное.
Рука моя неожиданно — повторяю, я ничего не соображал — нащупала выключатель ночника. Я увидел Мартину в желтых лучах лампы и не знаю даже, заметила ли она, что теперь ее озаряет свет.
Во всем ее естестве — в остановившемся взгляде, раскрытом рте, заострившемся носе — читались нестерпимый страх и в то же время — постарайтесь понять меня, господин следователь! — отчаянная решимость ускользнуть, в свой черед прорвать оболочку, пробить потолок, одним словом, обрести свободу.
Я видел — страх ее дошел до такого пароксизма, что я, добросовестный врач, содрогнулся, а потом с облегчением перевел дух, когда, в последний раз взвинтив себя до предела, она рухнула навзничь, опустошенная, сломленная, и сердце у нее застучало так исступленно, что я мог сосчитать его удары, даже не припадая ухом к ее маленькой груди.