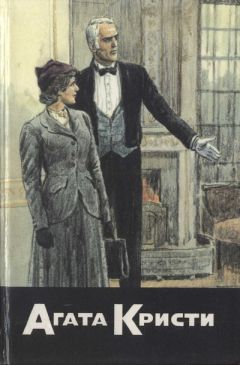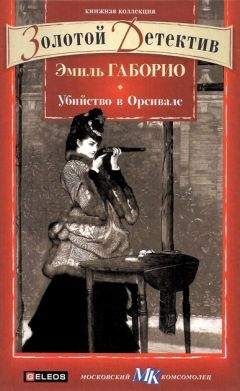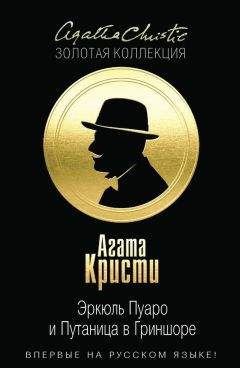Эмиль Габорио - Преступление в Орсивале
— Мадемуазель Куртуа, — мягко ответил он, — в защите не нуждается. Девушки, подобные ей, имеют право на всеобщее уважение. Но гнусная клевета неподвластна никаким законам, и это меня возмущает. Задумайтесь, господа: наша репутация, честь наших жен и дочерей может погибнуть по милости любого негодяя, у которого достанет воображения сочинить какую-нибудь пакость. Ему, быть может, не поверят, да что толку? Клевету будут повторять, передавать из уст в уста. И что тут поделаешь? Разве мы можем знать, что говорится о нас там, внизу, в потемках? Разве когда-нибудь мы об этом узнаем?
— Да какое нам до этого дело? — отозвался доктор Жандрон. — По мне, только один голос достоин того, чтобы к нему прислушаться, это голос совести. Что до так называемого общественного мнения, которое, в сущности, слагается из частных мнений множества олухов и мерзавцев, оно волнует меня не больше, чем прошлогодний снег.
Спор, быть может, затянулся бы, но тут судебный следователь извлек из кармана часы и с досадой воскликнул:
— Мы беседуем, а время идет. Нужно поторопиться. Давайте хотя бы распределим обязанности.
Это властное замечание г-на Домини помешало вступить в разговор Лекоку, который уже готов был поделиться с присутствующими своими соображениями.
Было решено, что доктор Жандрон приступит к вскрытию, а следователь тем временем набросает черновик донесения. Папаше Планта поручили присутствовать при осмотре места преступления, которым занимался сыщик.
Полицейский и старый судья остались одни.
— Наконец-то, — произнес Лекок, испустив долгий вздох облегчения, словно избавившись от непосильного груза. — Теперь мы сможем беспрепятственно идти вперед.
Уловив усмешку на лице папаши Планта, он проглотил пастилку и добавил:
— Хуже нет приезжать, когда расследование началось, можете мне поверить, господин судья! Твои предшественники успели уже составить собственное мнение, и если ты с ходу к нему не присоединишься, тебе придется туго.
На лестнице послышался голос г-на Домини, призывавшего своего письмоводителя, который прибыл позже и ждал на первом этаже.
— Видите ли, сударь, — добавил полицейский, — господин судебный следователь полагает, что столкнулся с совсем простым делом, а вот я, Лекок, ничуть не уступающий пройдохе Жевролю, я, любимый ученик папаши Табаре, — тут он почтительно снял шляпу, — пока что не нахожу решения.
Он задумался, вероятно перебирая в уме результаты осмотра, и продолжал:
— Нет, я в самом деле сбит с толку, просто ума не приложу. Чувствую, что за всем этим что-то кроется. Но что, что?
Лицо папаши Планта было по-прежнему невозмутимо, только глаза блестели.
— Возможно, вы и правы, — равнодушно обронил он, — возможно, за этим и впрямь что-то кроется.
Сыщик глянул на него, но он и бровью не повел. Всем своим видом выражая полнейшее безразличие, он делал в записной книжке какие-то пометки.
Оба надолго замолчали; Лекок устремил взор на портрет, поверяя ему свои мучительные раздумья.
«Видишь ли, душенька, — мысленно говорил он, — по-моему, этот почтенный господин — старая лиса, и надо зорко следить за каждым его поступком, за каждым движением. Судя по всему, он не разделяет мнения следователя: у него своя гипотеза, которую он не смеет высказать вслух, но мы эту гипотезу узнаем. Этот деревенский мировой судья — большой хитрец. Он раскусил нас с первого взгляда, несмотря на наши роскошные белокурые волосы. Он опасался, как бы мы не заблудились и не пошли по стопам господина Домини, вот он и навязался нам в провожатые, в помощники, в поводыри. Теперь, когда он почувствовал, что мы взяли след, он умывает руки и отступает. Честь открытия он предоставляет нам. Почему? Человек он здешний, может быть, боится нажить себе врагов? Да нет, он, пожалуй, не робкого десятка. В чем же дело? Ему внушает страх его собственная гипотеза. Он обнаружил столь поразительные вещи, что не смеет сказать о них прямо».
Внезапная мысль нарушила поток безмолвных излияний Лекока.
«Провалиться мне на этом месте, — подумал он, — а что, если я ошибаюсь? Что, если этот человек никакой не хитрец и ничего не обнаружил, а просто говорит и делает, что бог на душу положит? Я сталкивался с еще более поразительными случаями. Сколько я перевидал людей, у которых глаза, словно зазывалы при ярмарочных балаганах, сулят вам, что внутри вас ждут чудеса. А зайдешь и ничего не увидишь, тебя обманули. Но я-то, — и он улыбнулся, — я-то доберусь до правды».
И, напустив на себя самый простодушный вид, на какой только был способен, вслух произнес:
— По правде сказать, господин мировой судья, осталось совсем немного дела. Оба главных виновных в конечном счете у нас в руках. Рано или поздно они заговорят, господин судебный следователь в этом не сомневается, и тогда мы узнаем все.
Папашу Планта словно окатили ведром холодной воды — так он был потрясен и удручен.
— Как! — пробормотал он, совершенно ошеломленный. — Неужели вы, господин сыщик, с вашей сметкой, с вашим опытом…
В восторге оттого, что хитрость его удалась, Лекок уже не в силах был сохранять серьезный вид; папаша Планта понял, что угодил в ловушку, и разразился добродушным смехом.
А между тем ни один из двух этих людей, столь искушенных в науке жизни, столь хитроумных и проницательных, не сказал ни слова о том, что оба они имели в виду. Но они понимали друг друга, словно читали друг у друга в мыслях.
«А ведь ты, дружище, — рассуждал про себя сыщик, — что-то знаешь и скрываешь, но это нечто столь важно и столь чудовищно, что ты не заговоришь и под дулом пистолета. Хочешь, чтобы из тебя это вытянули? Ну что ж, и вытянем!»
«А он не дурак, — думал папаша Планта. — Знает, что у меня есть своя версия, будет искать ее и наверняка найдет».
Лекок сунул в карман бонбоньерку с портретом — как-всегда, когда предстояла настоящая работа. В нем взыграло самолюбие ученика папаши Табаре. Партия началась, а он был азартен.
— Итак, за дело! — вскричал он. — В протоколе господина мэра сообщается, что обнаружено орудие, при помощи которого здесь все переломали.
— На третьем этаже, в комнате, обращенной окнами в сад, — отвечал папаша Планта, — мы обнаружили топор, он валялся на полу, возле шкафчика, который явно пытались взломать, но не сумели. Я велел, чтобы к топору не прикасались.
— Разумное распоряжение. А что за топор? Тяжелый?
— Примерно с килограмм будет.
— Превосходно, пойдемте посмотрим на него.
Они поднялись, и г-н Лекок, мигом выйдя из образа аккуратного галантерейщика, берегущего свое платье, улегся животом на пол и принялся рассматривать грозное орудие разрушения — тяжелый топор с ясеневым топорищем, а также блестящий, хорошо натертый паркет.