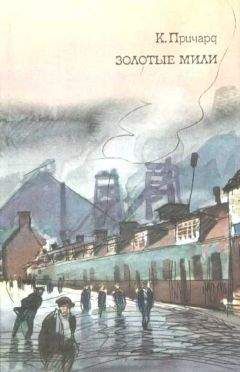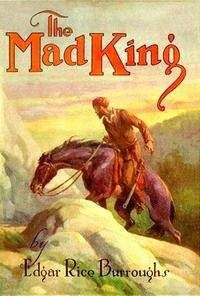Эдгар По - Золотой жук. Странные Шаги
Противоречия тут нет. Слепое довольство и горькое уныние — смыкаются в равнодушии. То и другое приводит к бездействию, а Честертон прежде всего проповедовал действие: не безмятежность, а мятеж, не уныние, а вызов С мудростью часто ассоциируют бесстрастие. Честертон стал мудрым очень рано, бесстрастия же не приобрел и в старости и ничуть к нему не стремился. Он и умер потому, что не хотел «уйти на покой», хотя был тяжко болен и врачи приказали ему не волноваться.
«Я принимаю мир, — писал он, — не как оптимист, а как патриот. Мир — не загородный дом, откуда мы можем уехать, если он нам не нравится. Он — наша фамильная крепость с флагом на башне, и чем хуже в нем дела, тем меньше у нас прав махнуть на него рукой» («Флаг мира»).
Честертон любил мир, как любят свой дом, и хотел, чтобы другие полюбили его так же сильно. Только тогда, считал он, люди захотят и смогут сразиться со злом и победить. Он говорил, что надо не просто любить и не просто ненавидеть мир, а «ненавидеть так сильно, чтобы его изменить, и любить так сильно, чтобы счесть достойным перемены».
Так относился к миру он сам. Он умел сильно любить, и ненавидел он сильно; но добро для него — суть мира, а зло — беззаконие, или, как говорил он сам, «узурпация»: оно существует, но не имеет права на существование. Поэтому дух его книг всегда радостен, как бы ужасны ни были события.
Те, кто все это понял, не увидят противоречия в его отношении к Англии Он признан чуть ли не самым английским из всех английских писателей; один критик сказал, что он пишет с английским акцентом. Но если считать типично английскими компромисс и благодушие, придется признать, что Честертон — не такой уж правоверный англичанин. В любом рассказе о Фишере и во многих рассказах о Брауне и Понде он говорит о своей стране такую горькую правду, что она кажется преувеличением. Секрет все тот же: он любил Англию не как шовинист, а как патриот. Любовь к ней, как любовь к миру, была у него так сильна, что его обвиняли в приукрашивании. Боль за нее так сильна, что его обвиняли в клевете.
Итак, Честертон любил мир и во имя этой любви боролся со злом. Что же было для него злом? С чем он боролся?
Злом Честертон считал все, что разделяет людей. Сюжет «Странных шагов», «Невидимки» и «Проклятой книги» на первый взгляд может показаться только занятным и парадоксальным. Однако это не так. Много раз — и в рассказах, и в романах, и в очерках — он настаивал на том, что каждый человек бесконечно важен и ценен. Ему не давало покоя одно из главных зол нашего века: равнодушие к людям. Слепота — синоним равнодушия; и вот Честертон претворяет в образы, как бы инсценирует это слово: в его рассказах люди буквально не видят человека. Очень важно, что те, кого не видят, — всегда низшие, подчиненные: секретарь, почтальон, лакей. Особенно ясен этот — социальный — мотив в «Странных шагах». Ту же самую слепоту считал он главным пороком английской бюрократии. В эссе «Двенадцать обычных людей» он писал, что в чиновниках «ужасно не то, что они злы, — есть и добрые, и не то, что они тупы, — есть и умные, а то, что они привыкли». Для него было злом все, что основано на пренебрежении к человеку, — будь то тирания или филантропия. Один из его излюбленных отрицательных персонажей — снисходительный и брезгливый филантроп. Его тревожило, что живую любовь к живым людям подменяют все чаще отвлеченной любовью к человечеству. «Такой любовью, — писал он, — обидишь и кота».
Тревожило его и неумение видеть мир. Сам он всю жизнь видел его радостно и четко, как ребенок, и писал в старости, что не перестал удивляться одуванчику или дневному свету. Этот дар он хотел передать читателю. «Долг искусства, — писал он, — сохранять способность к удивлению». В самом прямом смысле слова он пытался открыть людям глаза, снимал пелену равнодушия и привычности, как снимают серую пленку с переводной картинки. Много раз и в эссе, и в стихах он защищал (или показывал заново) почтовые ящики, фонарные столбы, яркие лондонские омнибусы и десятки других вещей, которые люди перестали замечать. В рассказах он защищает их косвенно — вспомните, что говорилось выше об его описаниях и красках.
Некоторые критики считают, что обновление забытых вещей — цель и, так сказать, амплуа Честертона. Это не совсем верно. Его тревожило равнодушие к миру, но равнодушие к людям мучало его гораздо больше Как Браун в «Дарнуэях», он мог сказать: «Я готов сровнять с землей все готические своды, чтобы сохранить спокойствие одной человеческой душе».
Над теми, кто слеп (а в «Гэхегене» — глух) по дурной привычке, он смеется не без добродушия. Его тревожит симптом, но сами люди не вызывают у него негодования. Если человеку нет дела до другого, смех его становится язвительным; так, к профессору Опеншоу он строже, чем к полисмену или швейцару, не заметившим почтальона. Если же виною тому высокомерие, он становится беспощаден, — вспомним «Странные шаги». Можно сказать, что из всех человеческих пороков он действительно ненавидел только упоение собой и намеренное пренебрежение к другим.
Эти свойства отнюдь не были для него признаками силы. Истинную силу он связывал не с утверждением себя, а с активной любовью к другим. Проблему активного противления злу, породившую столько споров и действительно непростую, он решал так: можно, а порой необходимо бороться с человеком, но нельзя смотреть на него со стороны, как на диковинного зверя, или сверху вниз, как на червяка. В этом и состоит тайна отца Брауна — он ничуть не проповедует непротивления злу, но никого, даже предателя, не считает ниже себя. Почти в каждой книге Честертона есть ученый, для которого человек — лишь объект исследования, или тиран, для которого человек-средство. К ним он безжалостен.
Борьбу Честертон понимал в рыцарском смысле этого слова — как честный поединок с равным или, еще лучше, сильнейшим противником. Кстати, те, кому бросал вызов он сам и в жизни и в книгах — миллионеры, филантропы, политические деятели, — были всегда надежно защищены своим положением, деньгами или громкой известностью. Много раз, особенно в стихах, он воспевал бой, обреченный на поражение Подавление же слабых он силой не признавал и пользовался любым случаем, чтобы высмеять модный в его дни и очень опасный культ сверхчеловека. Что же касается общественных форм борьбы, Честертон, как и Браун, был католиком, и силой, способной бороться со сложным злом современного общества, считал католицизм.
Ненавидел он и глупость. Честертона абсолютно не раздражала, скорей радовала нелепая и смешная, граничащая с чудачеством глупость, шокирующая интеллектуалов. Он нападал на другое — на умственную слепоту, против которой так пылко выступает Браун в «Дарнуэях». Особенно же ненавидел он глупость напыщенную, самодовольную. Собственно, только ее он и считал глупостью. Как и равнодушие и высокомерие, она была для него корой, отделяющей человека от мира и от других людей.