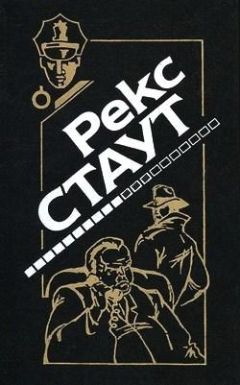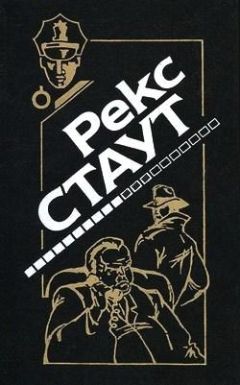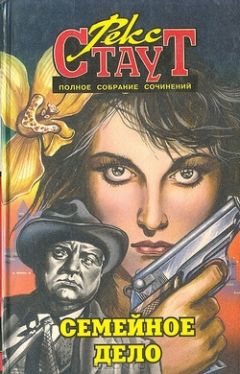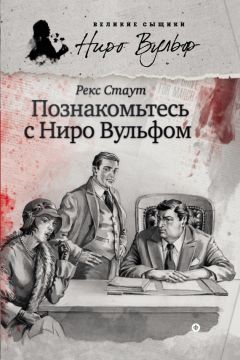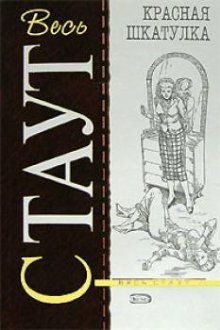Филлис Джеймс - Первородный грех
— Они утверждают, что даже не могли бы услышать такси, если только оно не ехало по булыжнику на Инносент-лейн. Это мы, разумеется, можем проверить. Если они все-таки слышали шум двигателя, они могли подумать, что это какой-то катер идет мимо по реке. Помните, занавеси у них были задернуты. Конечно, всегда можно предположить и что-то иное.
— Что иное, сэр?
— Что это они сдвинули катер с места.
57
Было всего лишь 5.30; по субботам покупатели обычно шли толпой, но на этот раз дверь магазина была заперта, а за стеклом виднелась табличка «Закрыто». Клаудиа позвонила в звонок сбоку от двери, и через несколько секунд появился Деклан и отодвинул засов. Как только она переступила порог, он быстрым взглядом окинул улицу и снова запер дверь.
— А где мистер Саймон? — спросила она.
— В больнице. Я был с ним. Ему очень плохо. Он думает, у него рак.
— А что они говорят там, в больнице?
— Они собираются сделать какие-то анализы. Но я видел — они считают, дело серьезное. Я утром заставил старика вызвать доктора Коэна — это его врач, и тот сказал: «Боже мой, что же вы не вызвали меня раньше?» Саймон знает, что ему из больницы не выйти, он сам мне сказал. Слушай, пойдем в заднюю комнату, там мне как-то спокойнее.
Деклан не только не поцеловал ее, он даже к ней не прикоснулся.
«Он разговаривает со мной как с покупателем, — думала Клаудиа. — Что-то с ним случилось, что-то более важное, чем болезнь старика Саймона». Она никогда его таким не видела. Казалось, им владеет возбуждение, смешанное со страхом. Глаза его диковато поблескивали, лицо покрывал пот. Она ощущала его запах — чужой, звериный. Она прошла за ним в оранжерею. Все три пластины прикрепленного к стене электрокамина горели, и в комнате было очень жарко. Все знакомые предметы выглядели странно, словно уменьшились в размере, превратившись в незначительные остатки чьей-то ушедшей, ничем не примечательной жизни.
Клаудиа не села, так и осталась стоять, наблюдая за ним. Он был одет более строго, чем обычно, и непривычный галстук и пиджак странно контрастировали с его прямо-таки маниакально беспокойными движениями, с его растрепанными волосами. «Давно ли он пьет?» — подумала она. Посреди вещей, беспорядочно наваленных на одном из столов, стояли наполовину пустая бутылка вина и бокал цветного стекла. Вдруг Деклан прекратил беспокойное хождение взад и вперед, повернулся к ней, и она увидела в его глазах одновременно и мольбу, и стыд, и страх.
— Полицейские приходили, — сказал он. — Послушай, Клаудиа, я вынужден был рассказать им про вечер четверга, когда Жерар умер. Вынужден был сказать им, что ты меня высадила у Тауэр-пирса, что мы не все время были вместе.
— Вынужден был сказать? — спросила она. — Как это — вынужден?
— Меня заставили.
— А что использовали? Иголки под ногти, раскаленные щипцы? Что, Дэлглиш выкручивал тебе руки и бил по щекам? Тебя что, отвезли в каталажку и били под ребра, умело не оставляя следов? Мы ведь знаем, как здорово они умеют это делать — мы смотрим телевизор.
— Дэлглиш не приехал. Были тот еврейчик и сержант. Клаудиа, ты просто не понимаешь, что это такое. Они считают, что Эсме Карлинг была убита.
— Они не могут этого знать.
— Я тебе говорю — они так думают. И им известно, что у меня был мотив убить Жерара.
— Если он был убит.
— Они знали, что мне нужны были наличные, что ты обещала их для меня достать. Мы могли пришвартовать катер у Инносент-Хауса и сделать это вместе.
— Только мы этого не сделали.
— Но они же не верят!
— Они что, так прямо все это и сказали?
— Нет, но им и не надо было. Я прекрасно понимал, что они думают.
Она спокойно проговорила:
— Слушай, если бы они всерьез тебя подозревали, им пришлось бы допрашивать тебя в полицейском участке, предупредив, что твои слова могут быть использованы против тебя, и записали бы интервью на магнитофонную пленку. Они так и сделали?
— Конечно, нет.
— Они не пригласили тебя поехать с ними в участок, не предложили тебе вызвать адвоката?
— Ничего похожего. Под конец они только сказали, что мне надо зайти в участок в Уоппинге и подписать показания.
— Так что же они тут все-таки делали?
— Без конца спрашивали, уверен ли я, что мы на самом деле были все время вместе, что ты привезла меня сюда из Инносент-Хауса… Насколько легче было сказать им правду! А инспектор употребил слова «соучастник убийства». Уверен, он так и сказал.
— Ты уверен? А я — нет.
— Ну, как бы то ни было, я им рассказал.
Она заговорила тихо, чувствуя, что губы у нее стали как чужие:
— Ты хоть понимаешь, что ты сделал? Если Эсме Карлинг была убита, то, возможно, и Жерар тоже. А если так, то обе смерти — на совести одного и того же человека. Было бы слишком невероятным совпадением, если бы в одной фирме завелись два убийцы сразу. Все, что тебе удалось сделать, так это навлечь на себя подозрение в двух убийствах вместо одного.
Он чуть не плакал:
— Но мы же были здесь вместе, когда умерла Эсме. Ты ко мне приехала прямо с работы. Я сам тебе открыл. Мы были вместе весь вечер. Занимались любовью. Я им так и сказал.
— Но мистера Саймона не было дома, когда я приехала, не так ли? Никто меня не видел, кроме тебя. Так что тут ничего не докажешь.
— Но мы же были вместе. У нас есть алиби — у обоих.
— А полиция поверит теперь такому алиби? Ты же признался, что солгал насчет того вечера, когда умер Жерар, так почему бы тебе теперь не солгать и про тот вечер, когда умерла Эсме? Ты так стремился спасти свою шкуру, что у тебя ума не хватило понять, что ты только глубже увязаешь в дерьме.
Деклан отвернулся от нее и налил еще вина в бокал. Протянув бутылку, он спросил:
— Хочешь выпить? Я принесу бокал.
— Нет, спасибо.
Он опять от нее отвернулся и произнес:
— Послушай, я думаю, нам пока не стоит больше видеться. Во всяком случае, довольно долгое время. Я хочу сказать, не надо, чтобы нас видели вместе, пока все это не разъяснится.
— Что-то еще случилось? — спросила она. — Дело не только в алиби?
Лицо его вдруг так преобразилось, что это могло бы вызвать смех. Выражение стыда и страха сменилось краской радостного возбуждения, лукавинкой удовольствия. Как он похож на ребенка, подумала она, интересно, какая же новая игрушка попала к нему в руки? Но она понимала, что презрение, охватившее ее, относится к ней самой в гораздо большей степени, чем к нему.
Он ответил, изо всех сил желая заставить ее понять:
— Что-то еще случилось. На самом деле — что-то хорошее. Это Саймон. Он послал за стряпчим. Собирается сделать завещание в мою пользу. Оставить мне свое дело и свою собственность. Ну а кому же еще все это оставить, верно? Никого же больше нет, никаких родственников. Он знает — на солнышко ему теперь уже не выбраться, так что пусть лучше мне все это достанется. Лучше мне, чем государству.