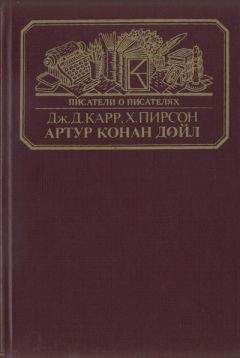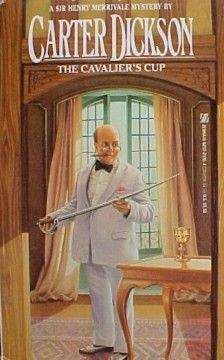Джон Карр - Назло громам
— Продолжайте, милая леди, — неожиданно и подчеркнуто вежливо попросил Хатауэй. — Продолжайте эту интересную беседу между мной и собой.
— Погодите, пожалуйста! Я думала… — Встревоженными блестящими глазами Паула смотрела мимо Брайана, словно разглядывая что-то в фойе, но на самом деле не видела ни этого фойе с мраморным полом, ни кремовых, оранжевых и черных красок, которыми оно было расцвечено, ни блестящих стеклянных дверей, выходящих на улицу. — «Гастхоф цум Тюркен» — вот как назывался домик для гостей, или отель, или не знаю, как это называлось, где наша группа провела ночь. Помните?
— Да, прекрасно помню. У меня даже есть фотография…
— Да бог с ней, с фотографией! На следующее утро мы четверо из нашей специальной группы — вы, Ева, мистер Мэтьюз и я — завтракали за одним столом. Кроме нас, за столом больше никого не было. Это происходило ровно в восемь часов утра, верно?
— Совершенно справедливо!
— Мистер Мэтьюз не съел ни кусочка и не выпил ни капли — он заявил, что никогда не завтракает. Вы тогда еще сказали, что у него настоящий пунктик насчет еды, и стали уговаривать его выпить хотя бы чашечку кофе, так как раньше половины второго ленча не предвиделось. Правильно?
— Не отрицаю…
— С этого момента мы все четверо держались вместе тесной группой, что было вполне естественно, — из нас только одна Ева говорила по-немецки. Мы все вместе сидели на террасе в ожидании машины, а в «Орлиное гнездо» ехали в одном автомобиле. С восьми часов и по крайней мере до четверти второго мы все были рядом. Вы согласны?
Хатауэй стоял неподвижно, изучая взглядом собеседницу.
— Вы согласны со мной, сэр Джералд?
— Искренне и чистосердечно: все верно. Да!
— В четверть второго, сразу же после того, как мы приехали в «Орлиное гнездо», Ева и мистер Мэтьюз вышли на балкон-террасу, не так ли? И буквально секунд через тридцать-сорок раздался крик Евы. Вы киваете в знак согласия, да? Тогда где и когда мог быть отравлен этот бедняга?
— Должен напомнить вам, милая леди, что около часу дня у жертвы начали проявляться признаки «горной» болезни — головокружение. Если ему всыпали дозу до восьми часов утра…
— За пять часов? — выдохнула Паула. — Вы серьезно думаете, что это можно было сделать за пять часов? Поверьте, мне довелось знать немало детективов-любителей — такие есть в каждой газете. Скажите, а вы можете назвать какой-нибудь яд или лекарственный препарат настолько медленно действующие, что они никак не проявляются в организме в течение пяти часов?
— Нет, признаю: такого не бывает. — Быстрыми шагами Хатауэй вышел из-за дивана. — Но погодите! Я допускаю, что между восемью утра и часом с четвертью дня жертва ничего не ела и не пила. Кроме того, поскольку мы все это время находились рядом, у убийцы не было возможности сделать ей какую-либо подкожную инъекцию. Точно так же нам следует исключить губку, пропитанную хлороформом, или что-нибудь подобное. Совершенно согласен с вами, что ни один из этих способов не представляется мне возможным, и все же…
— И все же?..
Альбом с фотографиями, брошенный на диван, по-прежнему был открыт на первой странице, откуда на них с большой фотографии смотрела Ева Ферье. Указав на нее, Хатауэй, сердито глядя на Брайана, произнес:
— Минуту назад ты призывал меня посмотреть на это лицо. Ну что ж, мой славный друг, теперь ты посмотри на него.
— Смотрю. Ну и что?
— А то, — провозгласил Хатауэй, — что между восемью и четвертью второго эта женщина убила Гектора Мэтьюза.
— Но как? Ты можешь нам сказать, как она это сделала?
— Ей-богу, — каким-то гортанным голосом произнес Хатауэй, — я смогу это объяснить.
— И собираешься кому-то это сообщить?
— Да, в нужное время я сделаю и это.
Он продолжал указывать на фотографию, и ни Брайан, ни Паула не могли отвести от нее глаз.
Брайан почти забыл поразительную красоту этой женщины. От снимка исходил какой-то невидимый на первый взгляд свет. Густые светлые волосы, уложенные по моде тридцатых годов, обрамляли лицо Евы Ферье, которое нельзя было назвать классически правильным из-за широко поставленных глаз с тяжелыми веками, полных губ и маленького носа. Могло показаться, что рот выражает насмешливость или жестокость его обладательницы, но с таким же успехом это могло быть и лишь игрой его воображения. Была ли Ева Ферье на самом деле чувственной натурой или нет, трудно сказать, однако немногие женщины способны лучше ее выразить это одним взглядом, а ведь на снимке она даже не улыбалась.
— Понимаешь? — спросил Хатауэй.
— Что понимаю? — начал было Брайан, но тут же замолчал, не давая вовлечь себя в дискуссию.
Хатауэй же ликовал, чего нельзя было сказать об остальных.
С другого конца фойе из столовой донеслись звуки оркестра, заигравшего популярную мелодию, но наши собеседники едва ли ее слышали.
За какие-то десять секунд Брайан, мысли которого все еще были заняты разговором вокруг фотографии, вдруг обостренно осознал совершенно очевидные вещи и краски, окружавшие его в это мгновение: Хатауэя в официальном вечернем костюме с мятой манишкой, тогда как ни Паула, ни он сам не позаботились о соответствующих случаю нарядах, огромные окна, выходящие на набережную Туреттини, ночного портье, подзывавшего снаружи такси. Однако наряду со всем этим его особенно поразила перемена, произошедшая с Паулой Кэтфорд.
Она стояла так близко, что даже слегка касалась его плеча, но неожиданно отпрянула назад с таким выражением лица, которое отнюдь нельзя было назвать «кротким лицом дочери священника».
— Я, конечно, не могу заставить вас говорить, мистер Джералд, — ведь я всего лишь скромный представитель прессы.
— С вашей стороны очень разумно признать этот факт, милая леди.
— Но вы ведь не станете возражать, что не существует таких документов, из которых можно было бы почерпнуть об этом какую-то информацию. Проводилось ли вскрытие трупа мистера Мэтьюза?
— Если проводилось, мисс Кэтфорд…
— Что значит «если»?! Разве по законам Германии, пусть нацистской, в случае насильственной смерти вскрытие не было обязательным? И если мистер Мэтьюз был отравлен, то это должно было быть обнаружено.
— Именно это я и имею в виду. Они ни за что не опубликовали бы результаты вскрытия, так что можете делать собственные выводы.
— Тогда что это был за яд? Или вы все это выдумали? И вообще, за что вы так ненавидите Еву?
Хатауэй побледнел, отчего его усы и борода стали выделяться еще больше.
— Я ничего не выдумываю, — отчетливо произнес он. — Вы, как Иннес, можете считать, что я сую свой нос в чужие дела, но я не подлец и не лгун и никогда никого не вожу за нос. Если это журналистская уловка, с помощью которой вы хотите заставить меня говорить…