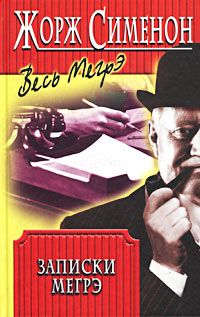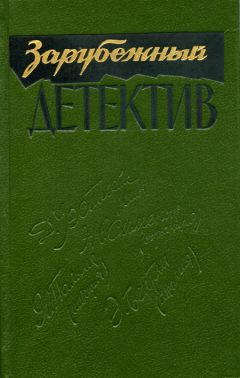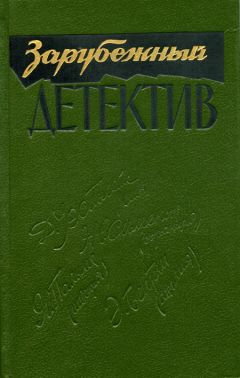Жорж Сименон - Плюшевый мишка
У нее уже дважды был самопроизвольный выкидыш. Она не сомневалась, что ее опять ждет то же самое, и смирилась, не пытаясь понять, отчего это с ней происходит, принимая свое несчастье как решение судьбы. Она едва ли слушала, что ей говорят, и вместо ответа только кивала или стонала.
– Дайте мне руку...
Шабо раскрыл ее ладонь, наклонился над нею и обнаружил то, что ожидал, – крошечные коричневые точки в складках. Вскоре появятся и более крупные пятна. Болезнь Аддисона. Внутримышечные инъекции кортизона.
– Внимательно наблюдать и представить мне отчет, – продиктовал он ассистентке.
Он был почти уверен, что сохранит ребенка. Но благо это или зло? Чуть ли не каждую неделю ему случается бороться во всеоружии современных медицинских средств, чтобы спасти лишенного умственных способностей урода, которого впоследствии перебрасывают из больницы в больницу, из приюта в приют. Но это его уже не касается.
Он вернулся в свой кабинет, подписал документы, которые ему протянула ассистентка, затем раскланялся в коридоре с профессором Бланком, ведущим курс гинекологии.
В машине его ждала Вивиана и вместе с нею – все его заботы.
– На Анри-Мартэн?
– Да.
– Вы не забыли, что около двух собирается рожать мадам Рош?
Вивиана ревновала его к миру Пор-Рояля, куда ее не допускали, и торопилась занять внимание профессора другими делами, как бы снова прибирая его к рукам.
– Я перенесла большую часть консультаций. На всякий случай я вызвала на пять часов господина Маркхэма и на пять тридцать – мадам Салиган.
Казалось, он дремал с полуоткрытыми глазами. Это случалось с ним все чаще и чаще, даже если ему удавалось проспать целую ночь. Это была всеобъемлющая усталость, она выходила за пределы обычного физического утомления, лишала его всех способностей – за исключением способности думать. Но думал он в такие минуты только об одном: о себе.
С одной стороны – он, опустошенный, неспособный к действию, а с другой – весь мир, с виду такой беззаботный, все эти мужчины, женщины, все эти люди, что ходят, разговаривают, смеются, вся эта декорация, упорно отталкивающая его от себя, все эти вещи, с которыми он утерял связь и которые пребудут неизменными, когда его не станет.
Он не мог сказать, когда и с чего это началось, и, если бы его спросили, он ответил бы не без иронии:
– Так было всегда.
Он перепробовал все лекарства, вот и теперь Вивиана в указанное время протягивает ему таблетку со стаканом воды.
Если в этот миг он и спешил домой, то лишь затем, чтобы броситься в свой кабинет, запереться на ключ и схватить бутылку коньяка.
Ни один жизненный орган у него не задет, это утверждают его коллеги, у которых он неоднократно проходил осмотр. Не посмеют же они ему солгать! Самое вероятное – то, что его желудок раздражен алкоголем, и это вызывает неприятные спазмы.
Раз десять он отказывался от коньяка. И каждый раз был вынужден снова прибегнуть к нему, впрочем, без излишеств, он никогда не бывал пьян, и это доказывается тем фактом, что никто из его окружения не заметил, что он выпивает.
Ему было стыдно, что он пьет вот так, потихоньку. Ему были ненавистны собственные скрытые поступки, хитрости, к которым он прибегал, к примеру, чтобы незаметно пронести в дом бутылку, пряча ее под полой или в портфеле. Пронести в клинику было еще сложнее. Он должен был найти благовидный предлог, чтобы услать Вивиану подальше, пойти пешком в лавочку, здесь же, в квартале, под вечным страхом, что его увидит ктонибудь из персонала.
– Оставить вам машину?
Он и не заметил, что они уже подъехали к дому. Он утвердительно кивнул, хотя смысл вопроса не дошел до него. Впрочем, не имеет значения. Она живет в пятистах метрах от него.
Он как раз думал об эльзаске и, взвесив все обстоятельства, пришел к выводу, что тот парень, должно быть, жених; брат, казалось ему, вел бы себя иначе.
Он выпил всего один стаканчик и равнодушно взглянул на почту, разобранную утром секретаршей. Машинально открыл ящик стола и вынул пистолет.
Держать его было приятно. Он был тяжелый и гладкий и не такой крупный, как ему казалось. Он для пробы опустил оружие в карман, вынул, но потом все-таки решительно сунул его обратно.
Бутылка спрятана, теперь он может повернуть ключ в дверях, и когда Жанина минут через пять зайдет к нему с сообщением, что завтрак подан, она застанет его у зеркала со строгим выражением лица.
* * *
Когда они переехали на улицу Анри-Мартэн, именно он настоял на том, чтобы столовая сохранила семейный вид, чтобы рядом с двумя парадными гостиными она выглядела как настоящая провинциальная столовая, вроде тех, что бывают в больших домах, принадлежащих нотариусам, на которые не без зависти глядят посетители.
Жена и дети уже сидели за круглым массивным столом, так что нечего ему хмуриться – все в сборе.
Почему у них в семье отвыкли целоваться при встрече?
С самого утра каждый жил своей особой жизнью, не заботясь о других членах семьи, и, если бы не существовало молчаливого обязательства всем собираться за завтраком, они бы целыми днями не встречались друг с другом, разве что случайно столкнутся в коридоре или в лифте.
Он еще не видел сегодня ни сына, ни дочерей, но никто не встал и не подошел к нему; и только Давид снисходительно буркнул:
– Все в порядке, па?
Для Давида и это было слишком любезно. Лиза попрежнему называла Шабо отцом; Элиана какое-то время, когда ей было лет пятнадцать-шестнадцать, развлекалась тем, что звала его по имени, но потом, по неизвестной причине, перестала.
Чтобы прервать молчание, жена спросила его:
– Надеюсь, тебе удастся отдохнуть часок после завтрака?
– Не думаю. Мне могут позвонить с минуты на минуту.
– А ты не мог бы устроить так, чтобы время от времени тебя заменял Одэн?
Слова падали в пустоту и ничего не значили. При случае заговаривали между прочим о его переутомлении, о его здоровье, о его работе, но никого это в действительности не трогало. Их всех устраивало жить за его счет.
А ведь эти две девушки и этот мальчик с басовитым голосом, выше его ростом, были когда-то младенцами, потом детьми...
Как другим отцам, Шабо случалось кормить из рожка Лизу и Элиану, менять им пеленки; правда, когда родился Давид, все уже было иначе, их жизнь усложнилась.
Он, а не жена, в доме у сквера Круазик ежегодно отмечал зарубкой на дверном косяке рост девочек. Интересно, сохранились ли эти зарубки? Их старую квартиру арендовал молодой врач; у него тоже есть дети, и неожиданно Шабо подумал, что и тот, в свою очередь, отмечает рост своих детей на дверном косяке.
А здесь нет никаких отметок. И никто не говорил Давиду, прижимая его спиной к дверной раме: