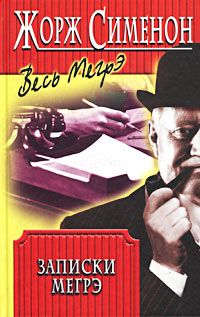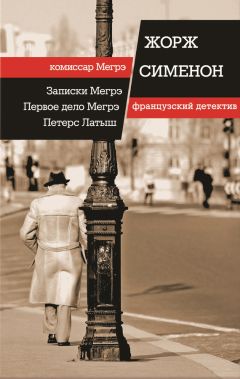Жорж Сименон - Записки Мегрэ
О той, первой трагедии я в ту пору почти ничего не знал. Жена доктора Гаделя забеременела, должно быть, в шестой или седьмой раз. Мне она казалась старухой, хотя ей было, наверное, не более сорока лет.
Что же произошло в день родов? Гадель, видимо, пришел домой пьяный больше обычного и продолжал пить у постели жены, ожидая, когда начнутся роды.
Но ждать пришлось дольше, чем положено. Детей увели к соседям. К утру роды все еще не начались, и свояченица, ночевавшая у врача, ненадолго отлучилась к себе по хозяйству.
Говорят, некоторое время спустя в доме врача раздались крики, поднялась суматоха, беготня.
Прибежавшие на шум соседи увидели, что Гадель плачет в углу. Жена была мертвой, ребенок тоже.
Еще долго потом я слышал, как возмущенные кумушки шептали друг другу с негодованием:
— Ну просто раскромсал, как мясник!
Многие месяцы история эта служила пищей для разговоров, и, как следовало ожидать, местные жители разделились на два лагеря. Одни — их было немало — стали обращаться за врачебной помощью в город, хотя в те времена такая поездка была нелегким путешествием, а другие, то ли из равнодушия, то ли все еще доверяя бородачу, продолжали лечиться у него.
Отец никогда не говорил со мной об этом. И мне остается только прибегнуть к догадкам.
Гадель по-прежнему бывал у нас. Обходя больных, он заглядывал к нам и все тем же привычным жестом ставил перед собой все тот же графинчик с золотым ободком вокруг горлышка.
Пил он, однако, не так, как раньше. Говорили, что его теперь никто не видит пьяным. Как-то ночью его позвали к роженице на самую далекую ферму, и он отлично справился со своим делом. На обратном пути доктор зашел к нам, и я хорошо помню, что он был очень бледен; я будто сейчас вижу, как отец долго и крепко пожимает ему руку, чего он обычно не делал, словно хочет подбодрить его, сказать: вот видите, а вы думали, что все пропало.
Он-то, мой отец, ни одного человека не считал пропащим.
Я никогда не слышал, чтобы он кого-либо осуждал, даже некоего арендатора, мошенника и горлопана, паршивую овцу нашей деревни, о грязных делишках которого отец сообщил помещику и который стал после этого обвинять отца в каких-то темных махинациях.
Без сомнения, врач стал бы человеком конченым, если бы после гибели жены и ребенка ему никто не протянул руки. Но отец это сделал. И когда моя мать забеременела, какое-то чувство, труднообъяснимое, но для меня понятное, заставило его и тут остаться верным себе.
Однако он принял кое-какие меры. Когда мать была уже на сносях, он дважды возил ее в Мулен к специалисту.
Пришло время родов. Ночью к врачу поскакал верхом один из конюхов. Меня не отослали из дому, и я сидел, запертый в своей комнате, и сильно волновался — для меня, как и для всех деревенских ребят, происходящее уже давно не было тайной.
Моя мать умерла в семь часов утра, и, когда я спустился в столовую, мне тотчас же, несмотря на все мое горе, бросился в глаза графинчик на обеденном столе.
Так я остался единственным ребенком. В доме у нас поселилась соседская девушка, чтобы вести хозяйство и присматривать за мной. С тех пор я больше не видел у нас доктора Гаделя и никогда не слышал, чтобы отец хоть словом обмолвился о нем.
Смутно помнятся мне однообразные дни, потянувшиеся вслед за этой драмой. Я ходил в сельскую школу. Отец становился все молчаливее. Ему было тридцать два года, и только теперь я понимаю, как он был еще молод.
Когда мне минуло двенадцать лет, я без возражений согласился поступить в интернат Муленского лицея, так как возить меня туда каждый день было невозможно.
В лицее я проучился всего несколько месяцев. Мне было там очень плохо, я чувствовал себя чужим в этом незнакомом и, казалось, враждебном мире. Но я ничего не говорил отцу, когда тот брал меня домой в субботние вечера. Я ни разу не пожаловался.
По-видимому, он и без того все понял, потому что на пасхальных каникулах к нам внезапно приехала его сестра, муж которой держал в Нанте пекарню, и я понял, что приводится в действие замысел, уже намеченный ранее в переписке.
Моя тетка, очень румяная женщина, к тому времени порядком раздалась вширь. Детей у нее не было, и это очень ее огорчало.
Несколько дней подряд она застенчиво топталась вокруг меня, как бы желая приручить.
Она рассказывала мне о Нанте, о своем домике возле порта, о вкусном запахе горячего хлеба, о муже, который работал всю ночь в пекарне и отсыпался днем.
Она старательно притворялась веселой. А я уже обо всем догадался. И покорился. Впрочем, нет, я не люблю этого слова — просто я был на все согласен.
Однажды в воскресенье после мессы мы с отцом ушли далеко в поле и долго там говорили. Впервые он обращался ко мне как к взрослому. Он говорил о моем будущем, о том, что мне незачем учиться в сельской школе, а в муленском интернате я буду лишен нормальной семейной обстановки.
Сейчас я понимаю, что он думал. Ему было ясно, что не годится мне, парнишке, у которого вся жизнь впереди, оставаться вдвоем с ним, человеком замкнутым, постоянно погруженным в свои мысли.
И я уехал на вокзал с теткой, а в повозке сзади нас подпрыгивал мой тяжелый сундук.
Отец не плакал. Я тоже.
Вот, пожалуй, все, что я могу сказать об отце. Потом в течение нескольких лет меня знали в Нанте как племянника пекаря, и я, должно быть, привык к этому человеку с волосатой грудью, видя его день за днем в красноватых отблесках печи.
Каникулы я проводил с отцом. Не решаюсь сказать, что мы с ним стали чужими. Но у меня к тому времени сложилась своя жизнь со своими стремлениями, своими трудностями. Отца я любил и уважал, но уже не пытался понять. Так продолжалось многие годы. А может, всегда так получается? Во всяком случае, тогда я склонялся к этому заключению.
Когда же у меня снова возник интерес к нему, было уже слишком поздно, чтобы задавать вопросы, которые я так хотел задать, и я упрекал себя за то, что не сделал этого, когда он был жив и мог на них ответить.
Отец умер от плеврита в возрасте сорока четырех лет.
Я был тогда очень молод и только начал учиться в медицинском. В свои последние приезды я обратил внимание на румянец, горевший на щеках отца, и лихорадочный блеск его глаз по вечерам.
— Болел кто-нибудь чахоткой у нас в семье? — спросил я однажды тетку.
Она вскинулась, будто я заговорил о чем-то постыдном.
— Да никогда в жизни! Все у нас были крепкие, как дубы! Разве ты не помнишь деда?
Как раз о нем-то я и вспомнил. И о его сухом покашливании, которое он объяснял курением. А еще очень смутно я припоминал, что в детстве видел на отцовских щеках тот же тлеющий огонь румянца.
И у тетки был тот же румянец.