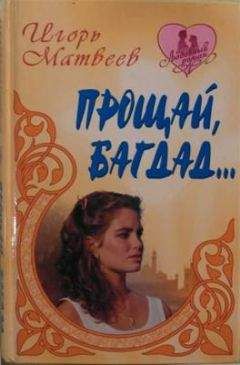Сара Уотерс - Тонкая работа
Она посмотрела на меня и отодвинулась.
— Надеюсь, — произнесла она громко, — надеюсь, вы не думаете, что я так дурно воспитана, что позволю себе шептаться?
Сестра Бекон обернулась к нам.
— Мод, что это вы делаете, а?
— Шепчется, — ответила Бетти басом.
— Шепчется? Я ей пошепчусь! Идите на место и оставьте мисс Уилсон в покое. Ни на минуту нельзя отойти, сразу начинаете к дамам приставать!
Наверное, она догадалась, что я ищу способ сбежать. Я вернулась на свою кровать. Сестра Бекон, стоя у двери, что-то шепотом сказала другой сестре. Та наморщила нос. Потом обе посмотрели на меня, как мне показалось, с неприязнью.
Но тогда я еще не понимала, что означает этот враждебный взгляд. И слава богу, что не понимала, потому что очень скоро мне предстояло это узнать.
Глава пятнадцатая
До сих пор я как-то об этом не задумывалась, потому что мне все казалось, я найду способ удрать. И даже когда прошла неделя, а за ней другая, я все еще в это верила. Но теперь стало ясно, что доктор Кристи мне не поможет — потому что, если он с первого раза поверил в мое безумие, все мои последующие слова и поступки лишь укрепляли его в этом мнении. Более того, он вбил себе в голову, что меня можно вылечить, что я снова войду в разум, едва начну писать.
— Вы слишком много времени уделяли литературному труду, — сказал он как-то раз во время обхода, — и в этом причина вашего недомогания. Но мы, врачи, иногда действуем от обратного. Я полагаю, если вы снова займетесь литературным трудом, вы поправитесь. Вот, поглядите. — Он показал мне что-то, завернутое в бумагу. Это была грифельная доска и мел. — Сядете, возьмете дощечку, — сказал он, — подумаете и до вечера напишете мне — только аккуратно, прошу! — свое имя. Настоящее имя. А завтра начнете писать мне историю своей жизни, с самого начала, каждый день добавляя к ней понемножку. И сами убедитесь: способность мыслить здраво вернется к вам сразу же, как только вернется способность писать.
По его приказанию сестра Бекон заставляла меня часами сидеть с мелом в руке; я, конечно, не писала, мелок крошился и рассыпался мелкой пудрой — или, наоборот, так и норовил выскользнуть из запотевших от натуги пальцев. Потом заглядывал доктор, смотрел на пустую доску, хмурился и качал головой. С ним иногда приходила сестра Спиллер.
— Опять ни слова? — говорила она. — А доктор так старается, чтобы вы поправились. Неблагодарная вы, вот что я скажу.
Когда он уходил, она трясла меня за плечи. Я плакала и ругалась — тогда она трясла сильнее. Так трясла — казалось, зубы вывалятся, а в животе мутилось.
— Эк ее прихватило, — кивала она другим сестрам и подмигивала, те смеялись в ответ.
Они ненавидели дам, к которым были приставлены. И меня ненавидели. Я говорила с ними так, как привыкла разговаривать с людьми, а им казалось, я над ними издеваюсь. Они думали, что доктор Кристи предписал мне особый уход и что я притворяюсь простолюдинкой. И дамы из-за этого меня тоже не любили. Только безумная мисс Уилсон обращалась со мной ласково. Однажды, увидев, как я сижу над грифельной доской и глотаю слезы, она дождалась, когда сестра Бекон отвернется, подбежала и написала мое имя — то есть имя Мод. Она хотела помочь, но, как выяснилось, лучше бы она этого не делала, потому что, когда доктор Кристи вошел и увидел надпись, он просиял и воскликнул:
— Прекрасно, миссис Риверс! Полдела сделано! Мы на верном пути!
А когда на другой день я снова не смогла ничего изобразить, он, конечно, решил, что я его разыгрываю.
— Сестра Бекон, — сказал он строго, — оставьте ее без обеда, пока еще раз не напишет.
И я стала писать: «Сьюзен», «Сьюзен», — и так раз пятьдесят. Сестра Бекон меня ударила. И сестра Спиллер тоже. Доктор Кристи покачал головой. Он сказал, что случай мой сложнее, чем он предполагал, и требуется иное лечение. Он дал мне выпить креозота — так, по крайней мере, сказали сестры, когда он вливал снадобье мне в рот. Рассуждал, что надо пригласить лекаря с пиявками, чтобы откачать кровь от головы. Потом в доме появилась новая дама, она говорила на каком-то заковыристом языке — на змеином, уверяла она, — и он тотчас же переключился на нее и проводил все время с ней: тыкал ее иголками, хлопал у нее над ухом туго надутыми бумажными кульками, шпарил кипятком — хотел как следует напугать ее, чтобы вспомнила родной английский.
По мне, так пусть бы с ней и возился до конца своих дней. Я давилась креозотом. Боялась пиявок. А раз он пока оставил меня в покое, я уж лучше посижу, подумаю, как отсюда выбраться. Потому что ни о чем другом я думать не могла. Пришел июнь. Сюда я попала где-то в мае. И все это время меня не оставляла надежда найти выход: я изучала расположение комнат, внимательно осматривала окна и двери, надеясь найти такие, которые плохо запираются, и каждый раз, когда сестра Бекон доставала из кармана связку ключей, я смотрела и примечала, какой ключ от какой двери. И заметила, что все двери спален, а также коридорные можно открыть всего одним ключом. Вот бы выкрасть его — тогда можно бежать. Но ключи висели на толстой цепи, и сестры все время держали их при себе, ну а сестра Бекон — ее предупредили, что за мной нужен глаз да глаз, — стерегла свои ключи пуще всех. Только Бетти могла она доверить связку, когда требовалось достать что-нибудь из шкафа, а потом сразу же отбирала и прятала в карман.
Меня же при этом душила злость и обида. Ну почему, почему я, именно я, должна прозябать тут в полной безвестности, в то время как весь родной и знакомый мне мир отделен от меня одним-единственным ключом — и ладно бы хитрым каким, так нет, самым обыкновенным, с четырьмя выемками на бородке: будь у меня под рукой болванка и напильник, я бы в два счета такой подделала. Я думала об этом по сто раз на дню. И когда умывалась, и когда сидела за общим столом на обеде, и когда шла по дорожкам сада или томилась в гостиной, под немолчное бормотанье и всхлипы безумных узниц. Думала, лежа в постели, щурясь от света ночной лампы, бьющего прямо в лицо. Если бы это были не мысли, а молотки и отмычки, я бы уже тысячу раз освободилась. Но мысли мои были скорее как ядовитое зелье. И так его много скопилось во мне, что мне стало дурно.
И это не та дурнота, не та внезапная паника, от которой бросало в пот, — так было лишь в самые первые дни. Теперь дурнота подступала исподволь и была как медленная пытка, мучившая неотступно, и я с ней в конце концов свыклась, как свыклась со всем, что окружало меня в этом доме: с блеклым цветом стен, с запахами из столовой, с женскими слезами и воплями, — и в последнее время я ее даже как-то не ощущала. Я по-прежнему сообщала всем, кто готов был слушать, что я в здравом уме, что я попала сюда по ошибке, что я не Мод Риверс и что меня нужно немедленно выпустить. Но я так часто повторяла эти слова, что они обесценились — затерлись, как монетки, слишком долго бывшие в обращении. И вот в один прекрасный день, прогуливаясь с одной дамой по саду, я снова завела об этом речь, и спутница моя посмотрела на меня с жалостью.
— Я тоже когда-то так думала, — сказала она с ласковой улыбкой. — Но, видите ли, раз вы находитесь здесь, то, боюсь, скорее всего, вы безумны. Все мы здесь со странностями, если приглядеться. Посмотрите вокруг — посмотрите на себя...
И улыбнулась — но, как и прежде, улыбка ее получилась какая-то жалостливая и робкая, потом зашагала по тропинке дальше. Я же остановилась. Действительно, я почему-то давно уже не задумывалась о том, как выгляжу в глазах окружающих. В заведении доктора Кристи не было зеркал: он опасался, что их разобьют, и, кажется, в последний раз я смотрелась в зеркало у миссис Крем — неужели у миссис Крем? — когда Мод заставила меня надеть это ее синее шелковое платье — синее? или все-таки серое? — и подала мне зеркальце с ручкой. Я закрыла лицо руками. Платье было голубое, теперь я уверена. Ну да, я же была в нем, когда меня привезли в сумасшедший дом! Потом его у меня забрали — и сумку, принадлежавшую матери Мод, тоже, вместе со всем, что в ней было: а были там гребешки, щетки, белье, красные прюнелевые туфельки, — больше я ничего этого не видела. И вот что дали взамен — я глянула на себя, на клетчатое платье и резиновые башмаки. Я уже стала к этим вещам привыкать. Но теперь вдруг будто впервые увидела — и подумала: надо бы получше рассмотреть. Сестра, которой поручено было приглядывать за нами, сидела на скамейке, закрыв глаза, и грелась на солнышке, а слева от нее было окно гостиной, выходившее в сад. В черных стеклах, как в зеркале, отражался длинный хоровод гуляющих по дорожкам дам. Одна из них остановилась и поднесла руку к лицу. Я моргнула — и она моргнула. Это была я.
Я подошла к ней ближе и, вглядевшись попристальней, ужаснулась.
Как и сказала дама, вид у меня был как у безумной. Волосы, когда-то крепко прошитые, со временем отросли, выбились из-под ниток и торчали теперь в разные стороны дикими пучками. Лицо бледное, но все в синяках и ссадинах. Веки припухли — должно быть, от бессонницы — и покраснели. Лицо заострилось, шея стала тонкая, как палка. Линялое платье висело на мне мешком. Из-под воротника торчали грязно-белые пальцы старой перчатки Мод, я ее все носила за пазухой. Тонкая лайка, даже со стороны видно, вся обкусана.