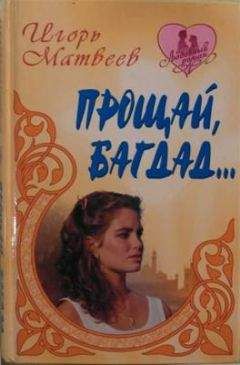Сара Уотерс - Тонкая работа
Я подошла к ней ближе и, вглядевшись попристальней, ужаснулась.
Как и сказала дама, вид у меня был как у безумной. Волосы, когда-то крепко прошитые, со временем отросли, выбились из-под ниток и торчали теперь в разные стороны дикими пучками. Лицо бледное, но все в синяках и ссадинах. Веки припухли — должно быть, от бессонницы — и покраснели. Лицо заострилось, шея стала тонкая, как палка. Линялое платье висело на мне мешком. Из-под воротника торчали грязно-белые пальцы старой перчатки Мод, я ее все носила за пазухой. Тонкая лайка, даже со стороны видно, вся обкусана.
Я смотрела на свое отражение. Смотрела и вспоминала, как когда-то, когда я была еще девочкой, миссис Саксби мыла, расчесывала и натирала мне волосы, и они блестели. И как она грела постель, прежде чем меня уложить: не дай бог простужусь. И как откладывала для меня, нарезая мясо, самые лакомые кусочки, и как ухаживала за мной, когда у меня резались зубы, и как оглаживала меня по рукам и ногам, чтобы убедиться, не кривится ли где. Как же привольно мне тогда жилось! А потом я отправилась в «Терновник» — чтобы заполучить наследство и поделиться с ней. Но наследство уплыло у меня из рук. Мод Лилли выкрала его у меня, а мне всучила то, что было уготовано ей. Это она должна здесь сидеть. Она посадила меня на свое место, а сама упорхнула, и теперь, в какое зеркало ни глянет — в модной лавке ли, в театре ли, в бальном ли зале, — везде она видит себя такой, какой мне не быть: красивой, веселой, довольной и — свободной.
Ярость вскипела во мне, я поймала в зеркале свой взгляд и сама себя испугалась. Так я стояла, не помня себя, пока дежурная сестра не пробудилась. Она подошла ко мне.
— Так-так, милочка. Любуемся на себя, значит, — сказала она, зевая. — Лучше бы, право, на башмаки свои посмотрели. Стоит того.
И подтолкнула меня к веренице гуляющих. Я влилась в их поток и смотрела теперь лишь на подол своего платья, на свои ботинки да на ботинки впереди идущей дамы и больше не поднимала головы — чтобы не видеть своего отражения в черном стекле гостиной, не видеть больше своих безумных глаз.
Это случилось, вероятно, в конце июня. А может, и раньше. О времени трудно было судить. Сколько точно дней прошло, не помню — время отсчитывалось неделями, потому что иногда по утрам нас не держали до завтрака в постели, а собирали в гостиной, где надо было стоять и слушать, как доктор Кристи читает молитвы, и по одному этому мы могли судить, что день воскресный. Может, стоило отмечать зарубками, как делают заключенные, сколько прошло воскресений, но, конечно же, я долгое время этого не делала — не видела смысла, потому что каждый раз мне казалось, что уж на этой-то неделе я точно убегу. Потом все смешалось в моей голове. То мне казалось, что в неделе по два-три воскресных дня. А в другой раз — что ни одного. Точно мы знали только одно: что весна сменилась летом, потому что дни стали длиннее, солнце палило вовсю, и в помещении стало жарко, как в печке.
Больше всего мне запомнилась духота и жара. Одуряющая жара. Воздух в спальнях вдруг стал горячий и густой. Кажется, две дамы и вправду умерли, надышавшись этим воздухом, хотя, конечно, врачи, доктор Грейвз и доктор Кристи, назвали причиной смерти апоплексический удар. Я слышала, как сестры об этом шептались. С каждым днем они становились все нетерпимей, все злей. Жаловались на жару, на головную боль, на то, что обливаются потом. Жаловались на одежду.
— И чего ради сижу я тут с вами, вся в шерстяном,— говорила какая-нибудь из них, — а пошла бы в Тенбриджскую лечебницу — ходила бы сейчас в поплине! У них все сестры в поплине!
Но на самом деле, и все это прекрасно понимали, ни в какую другую лечебницу наших сестер не взяли бы, да и сами бы они не пошли. Так что все это говорилось не всерьез. Они постоянно жаловались, какие беспокойные и хитрющие у них дамы, демонстрировали синяки; но вы же понимаете, какая может быть у опоенных и затравленных дам хитрость — опасность представляли сами сестры, когда им хотелось развлечься. Работа у них не сказать чтобы тяжелая: в семь вечера они загоняли нас в постель, давали нам лекарство — скорее всего, снотворное, — а сами до полуночи читали газеты или книжки, пили какао, вышивали, насвистывали, громко переговаривались, высунув голову в коридор, или, если очень надо было, ходили друг к другу в гости, заперев подопечных на ключ.
А утром, как только доктор Кристи сделает обход, снимали чепцы, распускали волосы, скатывали чулки, задирали юбки — и мы должны были стоять с газетой вроде веера и обмахивать их толстые белые ноги.
Во всяком случае, сестра Бекон так делала. Она жаловалась на жару чаще других из-за больных рук. Бетти раз десять на дню втирала ей мазь. Та стонала от боли. А когда жара еще усилилась, поставила у кровати две фарфоровые плошки и спала, опустив руки в воду. От этого ей снились сны.
— Он скользкий! — закричала она как-то ночью. А потом, еле слышно: — А!.. Его больше нет...
Я тоже видела сны. Каждый раз, стоило лишь закрыть глаза. Я видела во сне, как вы уже догадались, Лэнт-стрит, Боро, родной дом. Видела мистера Иббза и миссис Саксби. И до чего же это были тревожные сны!.. Я порой просыпалась вся в слезах. А иногда мне снился сон про сумасшедший дом: как я просыпаюсь и начинается обычный мой день. И когда открывала глаза, предстоящий день становился как бы продолжением сна, так все было похоже, словно это второй сон, а может, первый был явью? Я уже ничего не понимала.
Однако хуже всех были другие сны — они начались много позже, когда ночная жара стала невыносимой и в голове у меня помутилось. Это были сны про «Терновник» и про Мод.
Потому что я никогда не видела ее во сне такой, какой она на самом деле была, — обманщицей, воровкой. Ни разу не видела во сне Джентльмена. А видела лишь, что мы опять в старом дядюшкином доме и я — ее горничная. Видела, как мы идем к могиле ее матери или сидим у реки. Видела во сне, как одеваю ее и причесываю. И еще видела — а что же делать, если снится? — что я люблю ее. Но ведь я знала, что ненавижу ее. И что хочу убить. Но порой проснусь ночью — и уже не уверена... Очнувшись, я оглядывалась вокруг; в комнате нашей такая жара, что спокойно никому не спится, все ворочаются, вот Бетти высунула из-под простыни толстую белую ногу, вот потное лицо сестры Бекон, вот тонкая рука мисс Уилсон. Миссис Прайс, когда ложится спать, откидывает наверх свои длинные волосы — совсем как Мод, — я смотрю на нее в полусне и словно забываю, сколько времени прошло с конца апреля. Я забываю про побег из «Терновника», забываю про венчание в черной каменной церкви и про то, как жила у миссис Крем, как ехала в сумасшедший дом, про подлый обман; забываю, что хотела бежать и что собиралась сделать, когда убегу. Я думаю только — и сердце заходится от страха: «Где она? Где она?» — а потом, вздохнув с облегчением: «Вот она...» Я снова закрываю глаза — и я уже не в своей постели, а в ее. Полог опущен, она рядом. Я слышу ее дыхание.
«Какая душная ночь! — говорит она певучим своим голосом, а потом: — Мне страшно! Мне страшно!..»
«Не бойтесь, — отвечаю я, как всегда. — Не надо бояться».
И в этот миг сон обрывается, и я просыпаюсь.
Я просыпаюсь в ужасе, вдруг, как и сестра Бекон, я говорила во сне — или вздыхала, или дрожала. И лежу, охваченная чувством жгучего стыда. Потому что ведь я ее ненавижу, ненавижу! — и все же знаю, что втайне желала бы досмотреть этот сон до конца.
Я стала бояться, что начну ходить во сне. Что, если я попытаюсь поцеловать миссис Прайс или Бетти? Но когда я гнала от себя сон, в голову лезла всякая чушь. Мне представлялись всякие жуткие сцены. Странные это были ночи. Хотя от жары все отупели, у некоторых дам — даже у самых тихих и послушных — случались припадки. Лежа в постели, вы слышали душераздирающий визг, звон колокольчиков, топанье ног по коридору. Эти звуки вспарывали ночную тишь, как порыв ураганного ветра, и хоть вы и знали прекрасно, в чем дело, тем не менее звуки настораживали. Иногда какая-нибудь дама своим визгом вспугивала другую, и тогда я лежала и гадала, кто будет следующей — может, я сама? — и чувствовала, как волна безумия поднимается изнутри, накатывает, меня бросает то в жар, то в холод — о, это были жуткие ночи! Бетти стонала. Миссис Прайс плакала. Сестра Бекон вставала.
— Тише! Тише! — говорила она.
Открывала дверь, высовывалась в коридор и прислушивалась. Визг прекращался, шаги стихали в отдалении.
— Ну вот и скрутили, — говорила она, бывало. — Интересно, куда ее теперь — в «тихую» или на водные процедуры?
И это слово, «процедуры», подхватывала Бетти, мыча, и тогда миссис Прайс и даже старая мисс Уилсон вздрагивали и утыкались в подушку.
Я не знала тогда, почему так. Слово было чудное, и значения его мне не объясняли: мне казалось, что есть там какой-то черный шланг, и им, как воду насосом, выкачивают дурь из человека. И мысль эта была столь пугающей, что, стоило сестре Бекон произнести его, я тоже начинала дрожать.