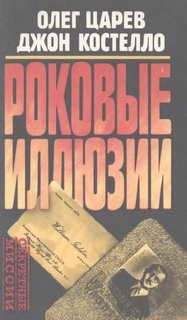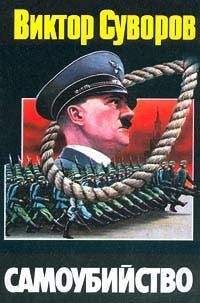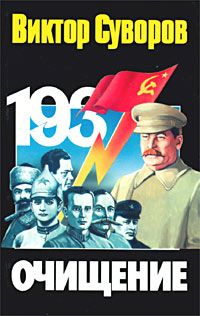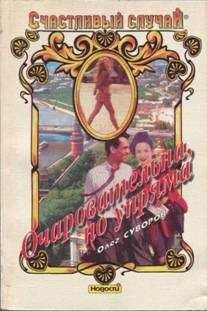Роковые обстоятельства - Суворов Олег Валентинович
Кассир общества угодил под суд, но отделался сравнительно мягким приговором — его лишили «всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ» и сослали жить в Енисейскую губернию, запретив отлучаться с места жительства в течение четырех лет и переезжать в другие губернии в течение четырнадцати лет. Столь мягкий приговор был продиктован общественным сочувствием к злополучному кассиру, представленному его велеречивыми адвокатами «жертвой личных обстоятельств». Иначе говоря, он расхищал казенные деньги, не чтобы пировать с кокотками, а дабы «залечивать душевные раны, нанесенные ему изощренным коварством любимой жены»!
И хотя главный бухгалтер должен был контролировать действия своего подчиненного, более того, в обязательном порядке визировал наиболее важные бумаги, имя Дворжецкого на суде звучало удивительно редко, хотя в кулуарах поговаривали о том, что в данном деле кассир общества выступал лишь в роли козла отпущения, а старания его адвокатов были щедро оплачены Михаилом Иннокентьевичем.
Вскоре после этого он покинул Общество взаимного поземельного кредита, поскольку отец сделал его директором собственного банка. А пару лет назад старший Дворжецкий умер в возрасте восьмидесяти лет, оставив старшего сына основным наследником всего своего огромного капитала, по разным оценкам насчитывавшего от 15 до 20 миллионов рублей.
Что касается личных качеств обоих Дворжецких, то о старшем из них ходили самые фантастические слухи и всевозможные сплетни, и одну из которых Денис не постеснялся пересказать Надежде. Чем меньше ему оставалось жить, тем яростнее бывший крепостной крестьянин, всю свою долгую жизнь посвятивший упорному «сколачиванию капитала», пытался наверстать упущенные удовольствия молодости. Отсюда и анекдоты о его чудовищных загулах, разнузданном разврате и разнообразных попытках удержать неумолимо ускользавшую жизненную силу.
Михаил с успехом перенял у отца сибаритство нувориша, и жил на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая. Так, особняк на Малой Конюшенной со всем находящимся в нем собранием картин, скульптур и прочих художественных ценностей он, не торгуясь, купил у представителя петербургской знати, предпочитавшего проматывать состояние за границей.
Несмотря на внешнюю респектабельность и приобретенную за границей вежливость обхождения, облик банкира производил довольно неприятное впечатление. На момент смерти отца самому Михаилу Иннокентьевичу было уже под шестьдесят, но выглядел он старше своих лет. Облысел Дворжецкий еще лет двадцать тому назад, и теперь над его большими крестьянскими ушами сохранились лишь самые незначительные и жидкие пряди волос. В нем было немало крестьянского — широкий нос, сильные грубые руки, хитрый прищур маленьких, глубоко посаженных глаз, спрятанных под густыми черными бровями. В уголках пухлых губ таились жесткие складки, взгляд имел какой-то неприятный оттенок «сальности», а благодаря странной привычке постоянно приподнимать одну бровь у собеседника возникало чувство, что она находится выше другой.
Тучность и одышка были несомненными следствиями пристрастия банкира к обильной еде, возлияниям и хорошим сигарам, одну из которых он в данный момент любезно предлагал Павлу Константиновичу Симонову.
«Какая снежная зима», — рассеянно подумал гость, раскуривая сигару в кресле напротив. Они находились в обставленном массивной старинной мебелью кабинете банкира, окна которого выходили в тихий и уютный дворик «в итальянском стиле» — то есть с мраморными статуями и небольшим фонтаном, в данный момент до краев засыпанным снегом.
— Очень рад, что вы соблаговолили принять мое приглашение, — заявил Дворжецкий.
— Отчего же мне было его не принять? — тонко улыбнулся Павел Константинович и льстиво добавил: — Как писал недавно скончавшийся литературный гений: «С умным человеком и поговорить любопытно».
— Надеюсь, как два умных человека мы поймем друг друга.
— Я весь внимание, Михаил Иннокентьевич.
Однако банкир продолжал присматриваться к собеседнику и не торопился начинать разговор по существу. Что касается Симонова, то он и понятия не имел, чем было вызвано приглашение Дворжецкого, поэтому заранее запасся терпением.
— Как насчет рюмки французского коньяку? — спросил тот после небольшой паузы.
— Увы-с, но мне еще предстоит заехать на, службу, — развел руками Павел Константинович.
— Тогда и я не буду… У вас очаровательные дочери, господин титулярный советник, можно сказать — нимфы и грации!
— Благодарю-с.
— Могу я осведомиться о том, какие вы планы имеете насчет их будущего?
— Не совсем понял, что вы имеете в виду? — наморщил лоб Симонов. — Вы интересуетесь их образованием или, так сказать, в матримониальном смысле?
— Допустим, что я интересуюсь вообще.
— Ну, младшая Надин мечтает стать актрисой и даже играет в любительских спектаклях, хотя я всячески пытаюсь выбить из ее головы эти глупости. А что касается моей старшей — Катрин, то… — И тут Симонов вдруг словно прикусил язык, а затем захихикал каким-то противным, подобострастным смешком: — Знаете, Михаил Иннокентьевич, недавно от одного сослуживца слышал прелестную шутку: «Какого сладостного утешения лишен женатый мужчина в отличие от холостяка?» — «До свадьбы заживет!» — и вновь захихикал, на этот раз выжидательно в надежде на ответную реакцию банкира.
Однако Дворжецкий остался невозмутим, не допустив на своем лице даже тени снисходительной улыбки.
— Интересно бы узнать, — медленно проговорил он, периодически посасывая сигару и выдыхая клубы дыма, — способны ли вы обеспечить своим дочерям приданое?
— Ну-с, в известных пределах, безусловно.
— То есть, у вас имеется приличное состояние?
— Увы-с, — и Павел Константинович уморительно развел руками, — моя жена младшая в своем роду дворянка, да и именьице у ее семейства весьма захудалое — сами еле кормятся. Так что живем-с, можно сказать, на одно мое чиновничье жалованье.
— И неплохо живете, ежели снимаете целый особняк, — вскользь заметил банкир, после чего его собеседник мгновенно насторожился.
— Не совсем понимаю, Михаил Иннокентьевич, к чему вы клоните, — заявил Симонов, заметно волнуясь и бледнея. Если до сего момента у него была счастливая надежда, что банкир возымел серьезные планы в отношении его дочери — отсюда и его плохо принятая шутка насчет «сладостного утешения холостяка», — то теперь он явственно ощущал, что дело обстоит намного хуже, и в маленьких глазках Дворжецкого таится большая угроза.
— Сколько жалованья вы получаете в своем министерстве? — не обращая внимание на волнение собеседника, спокойно продолжал банкир. — Тыщ семь-восемь в год, не так ли?
— Чуть поболее, — пробормотал Симонов, холодея от ужасного предчувствия.
— А проживаете?
Павел Константинович пожал плечами и хотел было твердо заявить, что это никого не касается, но губы его не слушались, и он сумел издать лишь какие-то невнятные звуки.
— Так из каких же, позвольте спросить, сумм вы собираетесь составить приданое дочерям? — продолжал неумолимый Дворжецкий. — Уж не из тех ли самых, которые вы в свое время получили от семейства покойной княгини Щербатовой по подложному векселю?
На Павла Константиновича было страшно смотреть. Если бы этот разговор происходил в официальной обстановке — например, в кабинете прокурора, — он бы уже давно рухнул в обморок или, по крайней мере, на колени, чтобы взмолиться о пощаде. Однако осознание приватности беседы его несколько приободрило. По какому праву банкир задает ему столь странные вопросы?
— Что это вы, Михаил Иннокентьевич? — глухо спросил он. — Я вас не понимаю… Это шантаж?
И тут, впервые за весь разговор, Дворжецкий вдруг добродушно улыбнулся и небрежно махнул рукой, распространив благодаря зажатой в ней сигаре красивую, змееобразную струю дыма.
— Что вы, дорогой Павел Константинович! Какие страшные слова вы говорите! Поверьте, я искренне сочувствую вам и всему вашему славному семейству и при известных условиях готов поспособствовать его благополучию.