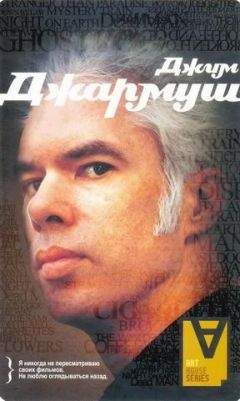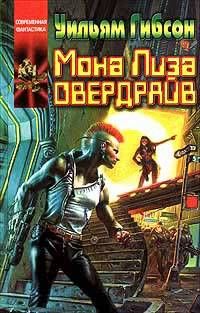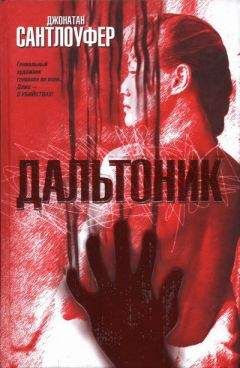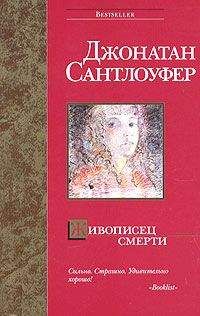Последняя Мона Лиза - Сантлоуфер Джонатан
– Это здорово, – сказал я, и она кивнула, водя пальцем по цепочке с медальоном – тонкая золотая линия на ее кремовой коже, как на картине, которую я рисовал с нее по памяти.
– А почему Верде? – спросил я.
– Это мамина девичья фамилия. Они развелись, когда я была еще маленькой. Не было смысла брать его… – она замолчала, потом тихо добавила: – Слушай, я должна это сказать. Прости меня, Люк, за все. Я никогда не думала, представить себе не могла…
Мне тоже было за что просить прощения, что я и сделал. Десятки раз я репетировал разные слова, которые собирался при этом сказать, но они как-то вдруг перестали иметь значение, и простого «прости» оказалось достаточно. Аликс кивнула, лицо ее немного просветлело, и она спросила, какие у меня еще новости. У меня не было большого желания говорить о своих делах, но хотелось побыть с ней подольше, поэтому я стал рассказывать, что вновь занялся живописью, и как теперешние мои работы отличаются от того, что я делал раньше.
– У меня даже побывали несколько дилеров, и один из них заинтересовался настолько, что хочет устроить мне выставку, когда я соберу все работы вместе, правда, это может занять некоторое время…
– Вот видишь, – перебила она. – Я же говорила, что ты найдешь другую галерею, и беспокоиться не о чем, помнишь?
– Да, – кроме того, я помнил, что она верила в меня даже тогда, и это для меня много значило. – Кажется, я еще спросил тогда, не ведьма ли ты?
– Без комментариев, – улыбнулась Аликс. – Как здорово, что ты снова творишь.
Я стал рассказывать о своем ощущении, что я нахожусь на пороге чего-то нового, и мне нужно просто продолжать рисовать, а там будет видно, что из этого получится. Она наклонилась ко мне, и было видно, что она действительно внимательно слушает. Мне хотелось рассказать ей все о своих новых картинах, чтобы она гордилась мной и уважала меня – чего мне так не хватало в юности, когда я усердно работал, чтобы получить все то, что чуть не потерял недавно. Я вспомнил Перуджу и то, как Симона верила в него и его искусство, когда никто больше не верил – и как она унесла эту веру с собой, когда умерла, и эта утрата заставила его лгать и воровать.
– Один друг мне сказал: никогда не знаешь, что придаст сил и заставит тебя снова работать, – мне вдруг вспомнились эти слова Смита, которые я почти забыл, а он оказался прав.
– Приятно слышать. Ты вернулся к преподаванию?
– Да, и оно тоже пошло лучше. – Так оно и было: мне все больше нравилось читать лекции, я чувствовал, что действительно знаю свой предмет и хочу им заниматься. – Это довольно забавно. Теперь я понимаю, сколько тайн в истории искусства, и стараюсь передать своим студентам это ощущение.
– Предлагаю назвать твой новый курс: «О чем мы в неведении в искусствоведении» – даже рифмуется!
Я улыбнулся, и мы оба замолчали. Так много всего хотелось сказать, но я едва ли не физически ощущал, как слова застревают в горле, потому что я совсем не был уверен, что Аликс хочет их услышать.
– Рада, что у тебя все хорошо, – наконец, произнесла она.
– А у тебя как?
– Мне нужно… во многом разобраться.
– Я уверен, что у тебя получится, – сказал я.
Она поблагодарила и начала подниматься из-за стола, но я сказал: «Останься, пожалуйста» – уже не заботясь о том, насколько уместно это прозвучит. Аликс неуверенно села.
– Я подумываю уехать куда-нибудь, – сказала она.
– Да? Надолго?
– Пока не… приду в норму.
– Я думал, ты уже в порядке.
– Я не о физическом здоровье. Мне нужно просто… время. Но мне нужно будет заботиться о маме, так что это ненадолго.
Ну, хоть ненадолго… только мне все равно хотелось прокричать: «А как же я? Как же я без тебя?»
Аликс снова встала.
– Подожди, – помимо воли, я произнес это очень настойчиво. – Мне еще нужно кое-что сказать.
Она вновь опустилась на стул, но так, словно готова была в любой момент убежать.
– Ничего страшного… Просто накопились кое-какие мысли.
– Хорошо. – Она прикусила нижнюю губу, словно ждала, что я начну обвинять ее в чем-нибудь. А у меня вдруг опять куда-то пропали все заготовленные слова и отрепетированные фразы, и вместо них в сознании остался один вопрос, который занимал меня с тех пор, как я вернулся домой. Его-то я и озвучил.
– Как ты думаешь, прошлое влияет на настоящее, или наоборот, настоящее влияет на прошлое? Я хочу сказать, наши знания о прошлом влияют на наше настоящее, на то, кем мы становимся, или наоборот?
– Очень философский вопрос, – ответила Аликс, вдруг успокоившись, и постучала пальцем по подбородку. – Думаю, есть немного и того, и другого.
Она помолчала, отвела взгляд, потом снова посмотрела на меня.
– Я тут тоже кое о чем думала, и тоже хочу у тебя спросить.
Я ждал, и эти несколько секунд были, наверное, самыми долгими в моей жизни.
– Сможем ли мы когда-нибудь забыть прошлое? Все, что было сказано и сделано. Принять – и оставить это позади?
– Да, – с облегчением произнес я и протянул ей руку. – Я точно знаю, что смогу.
Аликс ничего не сказала, только выдохнула, словно долго сдерживала дыхание. Затем она нежно обвила мои пальцы своими.
Лето в этом году наступило рано: уже в середине мая солнце ощутимо припекало, ярко сияя на светло-голубом небе. Симон пробирался через высокие пурпурные ирисы и траву, такую свежую и зеленую, что она казалась ненастоящей. Винченцо наблюдал за сыном издалека. По лицу и по спине у него тек пот: он только что закончил переносить дрова из дома в небольшой сарай, который построил, чтобы освободить место. Они все так же жили втроем, Симону было уже почти три года. Винченцо видел, как сын бойко перебежал через лужайку, а потом понял, что привлекло внимание малыша: лягушка, которая отпрыгивала каждый раз, когда он протягивал руку, пытаясь ее схватить. Симон промахивался и падал набок, смеясь, как от щекотки. Винченцо тоже засмеялся.
Все-таки он как-то смог преодолеть свое горе. Он не забыл Симону, не хотел ее забывать и никогда бы не смог это сделать, но он продолжал жить и двигаться дальше.
Он увидел, как Симон бросился на лягушку, опять промахнулся, упал и захихикал, потом снова прыгнул и схватил ее. Лягушка безуспешно пыталась высвободиться из его руки.
– О-о-о! – закричал Симон и оглянулся на отца, протянув руку и показывая добычу. – Смотли!
– Хороший улов, – одобрил Винченцо.
Симон ворковал над лягушкой, и солнце играло на его щеках и золотистых волосах. Потом он намеренно и подчеркнуто разжал ладонь, и лягушка выпрыгнула.
– Иди, лягушонок, – сказал Симон. – Иди!
Винченцо кивнул ему и улыбнулся.
– Молодец, хороший мальчик. – Он смотрел на сына и думал о том, что жизнь начинается с игры – погоня, плен… Он вспомнил долгие месяцы, проведенные в тюрьме – память об этом начала сглаживаться, словно это случилось с кем-то другим. Вспомнил он и о своих обещаниях, данных Симоне – в частности, обещании принести картину Леонардо. Глупое обещание, которое больше не имело значения.
А что имело значение, так это его последнее обещание – быть счастливым – и он сдержал его.
Он представил себе Симону, как она делает пируэт, и ее широкая юбка задирается до колен, ее лучезарную улыбку.
Симон не торопился вставать на ноги и тянул ручки вверх, покачиваясь из стороны в сторону. Винченцо поднял его на руки. Сын смотрел на него снизу вверх, и отец видел в его лице черты Симоны. Мальчик обхватил его за шею, сказал: «Папа» – и Винченцо показалось, что его сердце вот-вот разорвется от счастья. Он обнял сына, тот положил голову ему на плечо, и Винченцо посмотрел поверх его золотистых кудрей на каменный дом, который он купил и отремонтировал, на посаженные им деревца и кусты, которые, наконец, зацвели.
Он больше не был иммигрантом, безликим бродягой. Теперь у него был дом и сын.
Примечание автора
История, которую вы только что прочитали, основана на подлинных событиях.