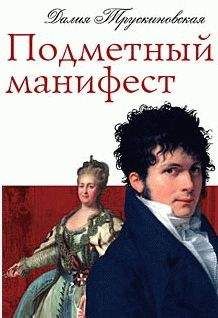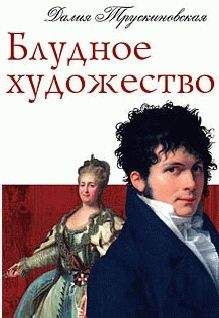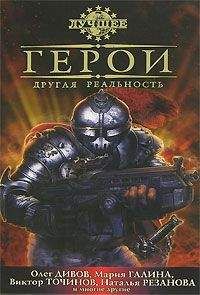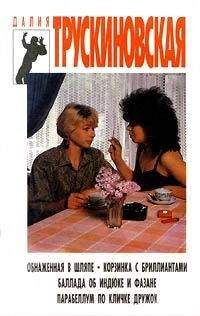Далия Трускиновская - Кот и крысы
И хорошо, что Бог послал Матвея. Во взыгравшей злости на пьяного доктора и в хохоте Архаров как-то разрядил свою закаменевшую, темную и тяжелую, как весь гранит петербургских набережных, хандру.
Подробнее разбираться он не стал, а вернулся в кабинет к Матвею.
– Сейчас посадим тебя в карету и будем возить, пока не найдешь дом того цирюльника, - пообещал он.
– Помилуй, Николашка! Москва-то велика, а я за эти дни ее вдоль, поперек и наизнанку обшарил! Это что же, мне…
– Вот именно. Жить будешь в карете, есть, пить, спать и гадить, пока не добудешь цирюльника.
– И это за все мое добро к тебе?! А архаровцы? Они тоже?…
– Они сменяться при тебе будут. Эй, орлы!
В дверях явился подбитый глаз Тимофея.
– Тимофей, вели Ушакову взять извозчика и подогнать сюда. Потом сядет с господином Воробьевым и будет ездить, пока не найдут нужного дома. Понял, Матвей? И не вздумай только поить Ушакова! Он за это в нижнем подвале спиной заплатит, а ты… с тобой я такое придумаю, что ты ему позавидуешь.
Архаров сказал это как можно более мрачно.
– А Сергейко не пьет более, - сообщил Тимофей.
– Это как?
– Ему видение было.
Архаров хмыкнул.
– Что за видение? - спросил строго.
– Сатана к нему в окно лез, к пьяному.
– Ну вот, глядишь, и от сатаны польза… - буркнул Архаров. - Давай, забирай доктора, и чтоб без добычи не возвращался!
Матвей, стеная и требуя, чтобы перед путешествием хоть покормили и малой стопочкой утешили, пошел прочь, но, когда он уже перешагнул порог, Архаров окликнул его:
– Матвей! А в Тверь зачем ездил?
– В Тверь? - переспросил Матвей. - А убей - не скажу. Когда ехал - помнил, кого мне в Твери было надобно. И я его там встретил. Но о чем мы говорили, что он мне поведал? Может, коли опять столько выпью, то вспомню. А?
И посмотрел на Архарова с надеждой.
– А вот велю Ушакову тебя с моста в реку вывалить - глядишь, и поможет, - отрубил Архаров. - Тимофей, скажи, чтобы мне этого голубчика с ветерком прокатили, чтобы весь хмель из него выдуло. А мне - мою карету подавать. Домой поеду.
Архаровцы молча смотрели, как он забирается в карету, как кучер Сенька щелкает кнутом.
– Слава те Господи, - сказал Тимофей. - Завтра тоже день. Авось за ночь отойдет…
– Так как разделяемся? - спросил Федька. - Кто-то должен на Ильинку пойти. Марфа-то не зря просила и днем, и ночью караулить.
– Я не пойду, - наотрез отказался Захар Иванов. - Я и так там который день живмя живу, а вся награда - изругал да чуть не прибил.
– Пойдешь! - повысил голос Тимофей. - Ты-то видел того крымского татарина, не то черкеса, а более никто не видел. Коли Марфа полагает, будто он на рулетку покушался и калмыка убил - то, поди, неспроста. Клашка, пойдешь с ним на пару. Ты чем займешься, Федя?
– Я в Замоскворечье бы подался, дельце у меня там недоделанное, - отвечал Федька. - Тогда-то не удалось выследить, кто землю на берег привозит, а надобно.
– Дались тебе эти землекопы! - скривил рожу Демка. - Мало ли, что у покойника ногти были грязные? Упал где-то, руками за землю ухватился. А ты уже и пошел комедии сочинять, как господин Сумароков.
Драматург был на Москве личностью до того известной, что его даже не ходившие по театрам архаровцы знали.
– Нет, братцы, нюхом чую - там что-то будет…
Подъехал на извозчике Сергей Ушаков, вошел в полицейскую канцелярию, вывел очень недовольного Матвея. За ними шел Устин, глядя себе под ноги.
– Ну, откуда мне помнить, где меня носило?! - жаловался Матвей. - Точно помню одно - кто-то из тех цирюльников жил в Кадашах, и уж оттуда мы поехали к другому, поворотя налево у поваленного забора…
– Так вы в Замоскворечье? - быстро спросил Федька.
– Выходит, так, - отвечал Ушаков.
Федька похлопал себя по карманам.
Карманы у кафтанов и мундиров были довольно велики - и архаровцы таскали в них всякое полезное для службы добро. У Федьки там лежал кошелек, ключ от задней двери дома, где он снимал комнату, табакерка - чтобы в обществе быть не хуже прочих, а также огниво, два толстых свечных огарка, зеркальце (Шварц научил его использовать для наружного наблюдения), несколько сладких сухариков (а это уж подражание вкусам командира), моток прочной веревки, чистая свернутая тряпица, оторванная во всю длину от старой простыни. Нож он носил на поясе и скрытно - под камзолом.
Словом, все необходимое архаровцу имущество было на месте.
– Возьмите меня, братцы! - попросил Федька.
– Садись.
– Вот ведь неугомонный… - пожаловался Тимофей, глядя, как Федька уезжает в Замоскворечье. - И куда его несет?
– Точно, что несет, - согласился Демка. - Устин, чего нос повесил?
Бывший дьячок посмотрел на него озадаченно.
– Говоришь, несет его, Демушка? А и точно - подхватило и несет… Как листок ветром…
– Ты о чем это?
Но Устин не ответил.
Очевидно, в этот день на Лубянке каждый задавал себе вопрос: Господи, что это со мной происходит и за что мне это? Вот такой выдался день, посреди многих, когда Архаров попытался заглянуть себе в душу, но правду увидеть не пожелал, а кроткий Устин, можно сказать, на пороге обители и в мечтах о постриге и монашеском подвиге, вдруг осознал свое родстве с буйным и шумным Федькой по одному лишь ощущению: он понял, что Федька помчался навстречу судьбе, а сам он уже сутки шел навстречу судьбе, и пускай шел пешком - все равно несло его, как будто весь он состоял из не имеющей веса души.
А куда? Вот то-то и оно. Устин знал, что их с Федькой подхватило и тащит в одном направлении.
Федька же, проезжая улицами, которые уже сделались хорошо знакомы, маялся оттого, что лошадка нетороплива.
Что-то должно было случиться.
Именно так ощущал этот вечер и Левушка.
Он скрылся от Архарова, с глаз подальше, поехал к родне, однако там произошел некий казус - юная кузина, одиннадцати лет от роду, трогая кружево, выбивавшееся красивыми волнами между бортов кафтана, обнаружила ленту, потянула - и на свет явился медальон с портретом Вареньки Пуховой.
– Ах, кто это? Кто такова? - тут же оживились дамы и девицы, а крошка-кузина, уже одетая на взрослый лад, в платье со шнурованием и кружевами на груди, закричала, зажмурившись от счастья:
– А я знаю, а я знаю! Это твоя невеста!
Левушка отнюдь не собирался вступать в брак, но для чего-то же он надевал на себя каждое утро медальон?
Он замахал руками на родственниц, принялся открещиваться, а душа-то уже ринулась в полет, а воображение развернуло некие сказочные картины, причем вдохновлялось оно тем, что Левушка неоднократно видел на театре, особливо в балетах: спуском крылатых богов на незримых канатах к угнетенным девицам.
И непременно - под музыку!
В таком состоянии души Левушка возвращался в дом к Архарову, беспрестанно улыбаясь.
Не любовь несла его душу над землей и над каретой, в которой он ехал, как ветер нес бы листик с дерева, а огромное и непобедимое желание любить. Словно бы спал, спал - да и проснулся.
Еще одним вознесенным в заоблачные выси был дворецкий Меркурий Иванович. Он встретил Сашу в сенях с нотами в руке. Меркурий Иванович обожал пение, в свободные вечера ходил в гости к знакомой чиновничьей вдове, где музицировали, и всякий раз для такого случая старался разучить модную песенку. Он покупал все, что только мог раздобыть по этой части, последним приобретением был новый выпуск «Собрания народных песен» господина Чулкова, а песни господ Елагина и Бекетова он переписывал у знакомых.
Та ария, с которой он сейчас маялся, была взята из комической оперы «Анюта», недавно представленной впервые в Царском Селе.
И каково же было удивление Левушки, когда он, поднимаясь по лестнице, услышал за спиной полный страсти, хотя и несколько завравшийся голос:
Жизнь моя с тобой мне в радость;
Без тебя мне будет в тягость;
Жизнь и смерть моя в тебе.
Став в твоей приятной воле,
Покоряюсь всякой доле,
Всякой яростной судьбе.
Страхом сердца не терзаю,
Для тебя на все дерзаю;
Стану тщетно век гореть;
Соглашусь и умереть!
Зажимая рот рукой, Левушка взлетел во второе жилье, ворвался в кабинет к Архарову и там дал волю смеху.
Архаров был уже в спальне, сидел в шлафроке за карточным столиком и раскладывал пасьяес. Как иные предпринимают пост для усмирения плоти, так он предпринимал пасьянсы для усмирения мыслей и порой оболванивал ими голову настолько, что еле добредал до постели.
Он знал их немало - «Головоломка», «Желание», «Знамя», «Игра мастей», «Камень преткновения», «Капризница», «Косынка»… Среди них он наблюдал ту же субординацию, что при дворе: иной пасьянс делался любимым на неделю или даже на месяц, потом уступал место другому, но сохранял еще какое-то время архаровскую благосклонность. Когда его обучали новому карточному раскладу, он не сразу принимал новинку, особенно если пасьянс сходился редко.