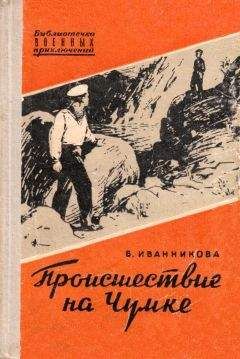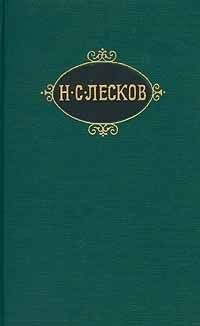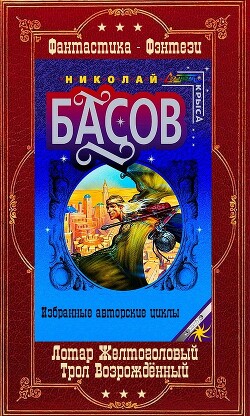"Библиотечка военных приключений-2". Компиляция. Книги 1-22 (СИ) - Иванникова Валентина Степановна
— Объясните своему приятелю, — сказал американец на отличном русском языке, — объясните, что пушнина у него плохая, но из уважения к вам, — ехидная усмешка скользнула по его губам, — из уважения к вам я беру эту дрянь в уплату его долга. Прошлой зимой мистер Кетчим ездил по стойбищам и дал ему в долг табак и чай…
— Объясняйтесь, мистер, сами. Мы не умеем.
Тогда Полистер, который так же хорошо разговаривал по-чукотски, как и по-русски, стал быстро-быстро что-то говорить Кальтэку.
Лица чукчей бесстрастны во всех случаях жизни. Но тут глаза Кальтэка гневно сверкнули и было видно, как на смуглых щеках его стал проступать тёмный румянец. Негодующе обратился он к пограничникам:
— Моя… взяла… один, — он показал палец и повторил — один… пачка таак… один ирпич… ча… Моя хачу ин… инчестер.
Тогда Полистер объяснил пограничникам:
— Прошлой зимой мы давали кирпич чая и пачку табаку за двух лисиц, только за двух лисиц, если их сразу тут же отдавали нам. Ну, а если отдают через год, то этого уже мало. Конъюнктура рынка ухудшилась. Кроме того, птицы несут яйца, важенка приносит телёнка, собака — щенят… Товар должен приносить выгоду, особенно, если его дают в кредит. Понимаете? Поэтому сверх двух лисиц он должен мне отдать песца.
— У нас в Саратове лавочник Залогин, к примеру, тоже так торговал, — понимающе поддержал Илюхин. — Двадцать да двадцать — рупь двадцать, чай, не брали — полтора…
— Илюхин, не ввязывайся, — остановил его старшина.
— Какой лавочник?! У нас большая, солидная фирма «Свенсон и компания»…
Между тем Кальтэк, видимо, твёрдо решивший приобрести ружьё, вынул из мешка ещё трёх песцов, добавил к ним выдру и бросил их на прилавок:
— Ружьё! — сказал он угрюмо.
Полистер достал из заднего кармана брюк флакон виски, хлебнул, подмигнул и пошёл в дальний угол склада. Вернувшись с дамской шляпой в руках, он водрузил её на голову Рылькуны. Серьёзное лицо чукчанки с татуировкой на щеках, чёрные косы с вплетёнными бусами и прикреплёнными монетами, меховая кухлянка и… фасонистая шляпка с дрожащими цветочками — нелепее этого и придумать было трудно.
Илюхин не смог удержать улыбку.
— Стыдно, товарищ Илюхин, — одёрнул его старшина.
Американцы хохотали, ничего не понимающая Рылькуна улыбалась, Кальтэк недоуменно смотрел на друзей.
— Эх, как вдарю ему зараз в очи. Тоди вин зроду не буде смиятыся! — вскипел Кравченко.
— Уймись!.. Не дипломатично… Комиссару доложим, он разберётся. Пойдём, братва.
Старшина потом говорил, что он увёл ребят потому, что боялся дипломатического скандала.
— Даст он ему в зубы, свернёт салазки, а он иностранец, у него договор с Советской властью… Увезут его на операцию, а потом пришлют ноту: что ж вы, скажут, договора заключаете, а потом в морду бьёте! Нельзя…
Сдружившийся с пограничниками Кальтэк стал одним из первых большевиков тундры. А, может быть, и самым первым…
Однажды в табун из стойбища приехал Тейтельхут. Жирный, он сидел на беговых санках, и медно-красное лицо его раскраснелось ещё больше от быстрой езды. Как и все чукчи, он был подпоясан очень низко сыромятным ремнём, на котором висел нож в деревянных ножнах и кисет с табаком, От сильных, рослых оленей шёл пар. Хозяин не спеша вынул из-за пазухи трубку, набил её табаком и протянул Кальтэку.
— Прикури!
Надо было сейчас же схватить трубку, побежать к костру, прикурить и, подбежав обратно, подать Тейтельхуту.
Но Кальтэк стоял и не двигался. Только глаза его, смотревшие на богача, засверкали, как угли.
— Ты зачем приехал? — вдруг спросил он Тейтельхута. — Оленей пасти?
Владелец табунов взглянул на людей, но глаза его как будто не видели их.
— Я приехал к своим оленям. Хочу посмотреть, хорошо ли пасёте вы их.
— Нет твоих оленей! Смотри! — вскричал Кальтэк и стал показывать на отдельные группы чёрных, белых, бурых, серых важенок и быков, пасшихся невдалеке по склону холма. — Вот — олени Гемалькута, это — олени Тевлянто, вот — Карауге, вот — моего отца, вот — Милеткина… Ты у всех отбираешь и оленей, и пушнину. А сам не работаешь. Ты, как овод, залез нам под кожу…
— Замолчи! Я вам есть даю…
— Мы работаем у тебя, как беговые олени, а едим, как тундровые мыши.
— Замолчи! Ты кто?
Тейтельхут вынул изо рта трубку и с удивлением посмотрел на смельчака.
И тогда Кальтэк, гордо выпрямившись во весь свой рост, медленно и громко ответил:
— Я бол-че-вик!
Глаза Тейтельхута стали круглыми, он молча и зло бросил свою тяжёлую, вылитую из олова, трубку в лицо Кальтэка, ударил оленей, они испуганно метнулись, и он ускакал.
…Через год Кальтэк уехал в Ленинград, в Институт народов Севера.
III
С марта месяца солнце с каждым днём удлиняло свой путь по небу, взбиралось всё выше и выше, лучи его становились теплее и теплее.
Весна пришла сразу.
Ещё вчера лежали мощные забои снега в руслах рек, в оврагах и между холмами. Только немногие проталины показались кое-где, да потемнели по краям озёра: выступила вода на лёд. А сегодня скопившаяся в ручьях под снегом вода прорвала пласты снега и весенние ручьи побежали в озёра, речки, реки, в лиман и море, поднимая постепенно в них лёд. Быстро зазеленела травка на проталинах, завозились в траве насекомые, и скоро появились комары и мошки, этот «гнус» — бич всего существующего в тундре. С юга показались стаи летних жильцов тундры. На озёрах и реках гомон птиц становился всё громче от количества и богаче от разнообразия голосов. Только в лимане лёд, набухший и синий, был неподвижен. Но в двадцатых числах июня и он тронулся, а к первому июля лиман очистился ото льда.
К этому времени солнце пряталось за горизонтом не дольше, чем девушка от милого за занавеской. В неуловимый миг вечерняя заря становилась утренней. Зазеваешься, не успеешь лечь спать вовремя — смотришь, уже утро, и солнце высоко. Да и сон в это время бежит от человека.
Как можно предаваться сну в эти ясные, тихие, прозрачные дни приполярной весны и короткого северного лета. Почти незаходящее солнце греет мягко и ласково, кажется, что видишь и слышишь, как растёт под его лучами трава, просыпается кругом жизнь. Смотришь в тундру и чувствуешь её величественный размах, погружённый в тишину, которую не нарушают, а точно тонут в ней, звуки свободной первобытной природы. Доносится гоготанье гусей с озёр, свистят поднимающиеся с земли ржанки, завывают сторожкие и хитрые гагары, слышится резкий голос какого-то хищника, подравшегося из-за добычи с белой, далеко видной в тундре, полярной совой, с задорным криком взмоет над тундрой петушок-куропатка и — тишина… Только шумит в стороне весенний ручей, каскадом падающий с обрыва.
В один из таких дней пограничники сидели у вырытой на окраине поста землянки старого чукчи Окоя, когда-то самостоятельно кочевавшего со своим табуном. Польстился Окой на хорошие зимние пастбища у моря и подогнал туда своих оленей. Подул с моря тёплый влажный ветер, а потом ударил мороз, и погубила оленей смертоносная гололедица. Не в силах были они достать мох из-подо льда, не могли и убежать — скользили, разъезжались ноги — и обессиленные, измученные животные падали и подыхали. По костям своих оленей Окой проследил весь их путь, проследил, как его табун растаял, словно снег весной. И стал Окой ловить рыбу на посту и перебиваться чёрной работой то у одного, то у другого…
Окой развивал пограничникам, не больше, не меньше, как анимистическую теорию религиозного мировоззрения, повторяя для ясности некоторые фразы ломаным русским языком. Шитиков, служивший переводчиком у начальника уезда, переводил. В общем, по Окою, получалась такая концепция:
— В речном яру живёт человек, — говорил Окой, — голос там существует и говорит. Маленькая серенькая плиска с синей грудью шаманит на ветке… Дерево дрожит и плачет под топором, как бубен под колотушкой… Всё, что существует, живёт… Духи окружают людей. Всё наполнено жизнью и голосами — светильник ходит, стены имеют свой голос, и даже урыльник имеет свою страну и шатёр, и жену, и детей… Шкурки песцов в мешках разговаривают по ночам. Рога на могилах ходят дозором по кладбищу, и сами покойники встают и приходят к живым. В небе живут солнце и луна, а звёзды — это их дети. Всё живёт.