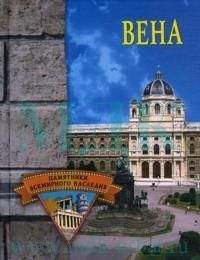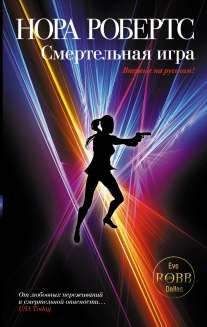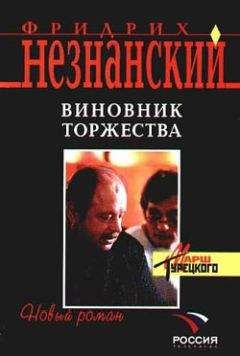Фрэнк Толлис - Смертельная игра
Либерман говорил совершенно уверенно.
Райнхард согласно хмыкнул, и молодой доктор продолжал анализ.
— Герр Хёльдерлин, хотя его застали со шкатулкой в руках, он все же утверждал, что не виноват. Думаю, можно смело предположить, что мать ругала его за что-то плохое. На первый взгляд кажется, что это нелогично. Как он мог настаивать на своей невиновности, когда его застали — и я говорю это сознательно — in flagrante delicto?[9] Но в сновидениях эти значения сливаются. Он не отрицал, что было свидание. Его протест касается более серьезного обвинения — в убийстве. Поэтому противоречивость его положения не вызывает никакого эмоционального конфликта. Его отказ переживается во сне как приемлемый. Из чего можно сделать вывод, что по крайней мере в убийстве он действительно невиновен.
— Но почему его застала мать? В действительности же его застал фон Булов.
— Профессор Фрейд предположил, что важные сновидения инсценируют сцены из детства. Возможно, что все сновидение Хёльдерлина построено на реальном воспоминании о том, как его застала за чем-то мать, которое сейчас находится глубоко в его подсознании. Но чтобы раскрыть тайну того, что же все-таки на самом деле произошло тогда в детской, потребуется много часов психоанализа.
Райнхард покачал головой.
— Это все прекрасно, Макс, но я не думаю, что Брюгелю понравится твоя интерпретация.
— Может и не понравится, — сказал Либерман, садясь и поворачиваясь, чтобы посмотреть на своего друга. — Но я могу обещать тебе, Оскар, что фон Булов не вырвет признание у Хёльдерлина, как бы долго он ни держал этого несчастного в камере!
74
— Мэр абсолютно прав, — сказал советник Шмидт, вытирая губы салфеткой. — Доктора, юристы, учителя, директора оперных театров — они везде. Надо что-то делать.
— Да, — сказал Брукмюллер. — Люди стали такие спокойные. Говорю тебе, Юлиус, нам нужен еще один Хильснер. Это заставит людей разговориться.
Козима фон Рат, задумчиво смотревшая на последнюю конфету, повернулась к своему жениху.
— Он тоже работает в муниципалитете? — Брукмюллер и Шмидт переглянулись и разразились смехом.
— Боже мой, нет, любовь моя. Это не одни из нас — это один из них. Ты, конечно, слышала о Леопольде Хильснере?
Козима отрицательно покачала головой, и плоть, висящая вокруг шеи, затряслась, как бланманже.
— Ханс, — воскликнула она, сжимая губы и изобразив довольно некрасивую гримасу. — Ты же знаешь, что я не от мира сего.
— Вы никогда не читаете газеты, моя дорогая? — спросил Шмидт.
— Никогда, — ответила она.
— Я видел, как ты читаешь светскую хронику, — возразил Брукмюллер.
Козима не обратила на него внимания.
— Я подумал, — продолжал советник Шмидт, — что вас, как знатока тайных обрядов и ритуалов, чрезвычайно заинтересует дело Хильснера.
— В самом деле? Почему?
Козима протянула руку к последнему трюфелю — не смогла устоять перед этим аппетитным лакомством, обсыпанным порошком какао.
— Хильснер был ритуальным убийцей, — сказал Шмидт.
Рука Козимы зависла над конфетой, как хищная птица в небе, высматривающая добычу.
— Неужели? — Она повернулась посмотреть на Шмидта, ее поросячьи глазки блестели на фоне розовой плоти.
— Видишь? — сказал Шмидт Брукмюллеру. — Я знал, что когда-нибудь мы сможем заинтересовать ее политикой. — Он шутливо поднял бокал и сделал глоток бренди.
Брукмюллер улыбнулся и покровительственно положил Козиме руку на плечо.
— Он был евреем, любовь моя, и учеником сапожника. Его судили за убийство девушки. Насколько я помню, ей было всего девятнадцать лет.
— Да, девятнадцать, — подтвердил Шмидт.
— Ее тело обнаружили недалеко от еврейского квартала в городе Полна. У нее было перерезано горло. — Брукмюллер провел пальцем по своему кадыку. — В ее теле не осталось ни капли крови.
Козима быстро отдернула руку от конфеты и схватилась за свой усыпанный драгоценными камнями анкх.
— О, как это ужасно! — пискнула она. — Но зачем он это сделал?
— Ему нужна была христианская кровь для этого их хлеба.
— Маца, — сказал Шмидт с преувеличенным отвращением. — Ужасная гадость.
— Видимо, они делают это уже столетиями, — заметил Брукмюллер, наливая себе еще бренди.
— О, да… — произнесла Козима, внезапно осознав связь между темой разговора и своими обширными знаниями в области тайного и неизведанного. — Я читала об этом, но и представить себе не могла, что такие ритуалы проводятся и сейчас, в наше время. Это просто невероятно.
— Действительно, — отозвался Шмидт. — Хильснер сейчас за решеткой, слава богу. Но, по совести, его надо было бы повесить.
— Его не приговорили к смерти? — сказала Козима, театрально зажав рот обеими руками.
— Нет, моя дорогая, — ответил Шмидт. — Благодаря шумихе, поднятой либеральным меньшинством, в основном евреями, его судили повторно. Во второй раз ритуальное убийство даже не упоминалось на суде! Правду утаили. Но все равно вышло не совсем так, как они хотели: Хильснера, конечно, снова признали виновным и приговорили к пожизненному тюремному заключению… Но его надо было повесить.
Козима наклонила голову и перевела взгляд со Шмидта на Брукмюллера. И опять она попыталась изобразить на своем лице рассерженную гримасу.
— В чем дело, дорогая? — просил Брукмюллер.
— Я не понимаю.
— Чего ты не понимаешь?
— Бога ради, почему вы утверждаете, что нам нужен еще один Хильснер?
— Это политика, моя дорогая, — сказал Брукмюллер, постукивая пальцем с крупными фалангами по своему большому носу. — Политика.
75
Либерман закончил фугу до мажор и начал отстукивать на клавишах прелюдию до минор. Он все чаще играл Сорок восьмую симфонию Баха в качестве упражнения. Каким-то образом чистота и элегантность контрапункта Баха помогала ему думать. Он так хорошо знал грандиозное кругосветное плавание Баха в мире тональностей, что его пальцы сами вовремя нажимали на нужные клавиши без каких-либо умственных усилий с его стороны. Для Либермана исполнение Сорок восьмой симфонии было подобно очищению духа — западным эквивалентом специфических обрядов, проводимых на Востоке.
Либерман не сомневался, что его толкование сна Хёльдерлина было верным. Банкир не был любовником фройляйн Лёвенштайн, и он ее не убивал. Никакого признания не будет.
Мелодические линии следовали друг за другом через разные интервалы и сталкивались в насыщенных темах инвенции.
Кто же тогда?
Левой рукой он стал наигрывать повторяющуюся тонику прелюдии ре минор, триольные шестнадцатые ноты падали как проливной дождь.
Бог штормов!
Либерман вдруг подумал, что дело Левенштайн похоже на лабиринт. Они с Райнхардом вслепую бродили по его темным коридорам, изредка натыкаясь на какие-то путеводные нити, шли за ними некоторое время, чтобы потом оказаться в тупике, упереться в непреодолимую стену. А в центре лабиринта находилось воплощение древнего зла, смеявшееся над их глупостью.
Кто бы ни был убийцей фройляйн Лёвенштайн — а им вполне мог быть и Уберхорст — ему удавалось поддерживать маскировку. Пока не будет раскрыта эта тайна, дело не будет успешно завершено. А сейчас с таким же успехом это преступление можно приписать богу Сету.
Двери, запертые изнутри. Огнестрельная рана без пули. Каким образом были проделаны эти фокусы?
Продолжая играть, Либерман вдруг понял, что музыка Баха — это тоже загадка. Она звучала спонтанно, казалась импровизацией, порожденной вдохновением, но на самом деле каждая фуга подчинялась строгой внутренней логике. Таким образом, магия может свестись к прилежному применению музыкальных правил и математических принципов. И тем не менее, хотя Либерман мог приподнять завесу тайны над очарованием музыки Баха, он не мог разгадать мистического убийства фройляйн Лёвенштайн. Механизм обмана оставался невидимым — все его гайки и шестеренки были тщательно спрятаны.
Расследование зашло в тупик.
Либерман был вынужден признать неприятную, но очевидную правду. Ни он, ни Райнхард не могли найти разгадку. Им нужна была помощь. К тому времени, когда он дошел до пятнадцатой прелюдии, Либерман знал, что ему делать. Он не перестал играть, а, наоборот, исполнил весь первый том. Потом, закрыв крышку Бёзендорфера, он встал и вышел в коридор, где взял пальто с вешалки. Он закончит второй том, когда вернется.
На улице было еще довольно светло, вечер выдался теплый и приятный. Воздух был насыщен запахом сирени. Он быстро пошел вперед, пересек Варинг-штрассе и стал спускаться к Дунаю. Либерман сбавил шаг, проходя мимо Бергассе, 19, борясь с искушением зайти. Профессор Фрейд с радостью поделился бы с ним своим мнением о значении сна Хёльдерлина и мог даже нарисовать психологический портрет убийцы. Но Либерман понимал, что этого будет недостаточно. Чтобы разгадать тайну убийства Лёвенштайн, нужен был другой подход. Он снова ускорил шаг.