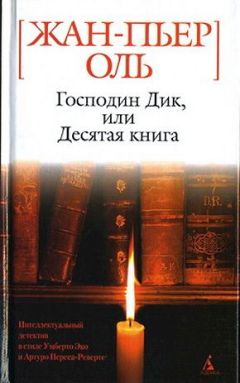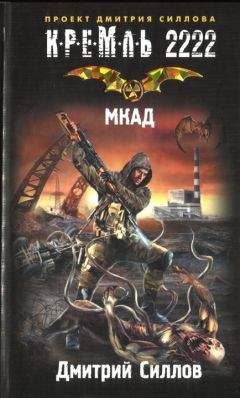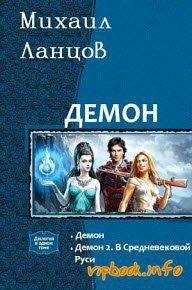Жан-Пьер Оль - Господин Дик, или Десятая книга
— Ты чувствуешь, Франсуа? Это — море!
— Значит, это море воняет!
Это было правдой: смрадный запах серы и гнилой капусты уже проник в купе.
— Мы подъезжаем!
Я уже не вернусь к «Хорошим детям». И Матильда, и клоун Бобо будут на долгие годы похоронены в глубинах моей памяти. И все же именно там, в глубине той темной комнаты, я впервые встретился с двумя самыми главными персонажами повести моей жизни: с Диккенсом и с моей женой.
III
Прижавшись носом к стеклу, я разглядывал длинный фабричный хобот, выбрасывавший непрерывную струю опилок. Огни печей подсвечивали образованные этими выбросами крутые горы; по их склонам с трудом взбирался смешной гусеничный экскаватор, напоминавший жука, штурмующего огромную кучу навоза. Потревоженные ковшом, опилки медленными лавинами сползали налево и направо, и через несколько секунд гора превращалась в площадку. Но хобот продолжал плеваться, гора восстанавливалась, жук кашлял, упирался, буксовал и наконец снова шел на штурм. Время от времени фары машин вырезали из темноты контуры гигантских рулонов бракованной бумаги, которые стояли вдоль обочины, словно ожидая, когда какой-нибудь циклоп схватит один из них и оторвет клок, чтобы подтереть свой циклопический зад.
— Эй! Малыш! Зайди ко мне…
Взвывает сирена. Восемь часов. Теперь уже скоро придет мать. Летом я мог следить за тем, как она выходит из фабричной конторы, ждет, пока горит красный свет, и затем переходит улицу по направлению ко мне, за несколько секунд до того, как хлынет поток рабочих второй смены. Но сейчас зима, и уже темно. Бабушка зовет меня.
Это была красивая, свежая и кокетливая маленькая старушка, всегда безукоризненно одетая, с прекрасными серебряными волосами, собранными в узел на затылке. Иногда под вечер она засыпала в своем кресле у камина и улыбалась во сне. Затем, вздрогнув, просыпалась, хлопала глазами, слегка оправляла кружевной воротничок блузки, чтобы он выглядел безупречно, и звала меня; у нее был приятный, почти юный голос. Когда я подходил, она снова улыбалась. Ее безмятежно-ясное лицо медленно поворачивалось ко мне; она притягивала меня к себе. Кожа ее совсем не была шершавой, как бывает у стариков; я вдыхал запах ее духов «Утренняя серенада» — духов молодой девушки, она заказывала их по почте. Она проводила рукой по моим волосам и ухватывала меня за щеку. Иногда какой-нибудь зевака задерживался перед окном, чтобы полюбоваться этой картиной. И если бы он мог открыть окно, вот что бы он услышал: — Значит, я тебе противна, а? — Ее наманикюренные ногти впивались мне в щеку. — Ты только не подумай, что мне приятно спросонок увидеть твою крысиную мордочку… Это просто немножко, совсем чуть-чуть напоминает мне, что я еще существую, понимаешь?
Она снова ерошила мои волосы, вылавливая узелки, которые удаляла короткими шлепками.
— У добрых людей есть тысячи способов напоминать другим о себе: подарки, улыбки, гостинцы и сюси-муси-пуси. А я не добрая, у меня нет выбора, мне надо кому-нибудь надоедать. И никого, кроме тебя, у меня под рукой нет…
В каком-то смысле справедливо было и обратное: у меня тоже никого больше под рукой не было. Ни друзей, ни даже приятелей. Мать приходила поздно, к тому же она со мной почти не разговаривала: я будил в ней оскорбительные воспоминания.
Когда я понял, что приставания бабушки — это лишь некий ритуал, не предполагающий ничего неожиданного, я перестал их бояться и уже ждал их, как другие дети ждут улыбок, ласк или конфет.
«Неподвижная» — так я назвал ее с самого начала: она была калекой. Ее левая нога, твердая, как деревяшка, и сине-красная из-за плохой циркуляции крови, должна была все время находиться в горизонтальном положении, для чего была предусмотрена специальная табуретка. Я практически никогда не видел их порознь: бабушкину ногу без табуретки и табуретку без бабушкиной ноги. Когда я шел спать, Неподвижная еще оставалась в своем кресле, а когда я просыпался, она уже снова сидела там — точно в том же положении; она была словно какая-то холодная звезда, словно неподвижное солнце, которое никогда не садится и никогда не встает.
Правда, однажды вечером я подсмотрел, спрятавшись за дверью, как моя мать ведет ее к кровати. Неподвижная передвигалась крохотными шажками, опираясь левой рукой на палку, а правой — на дочь. Звук от шага больной ноги был глуше, чем от шага здоровой. Оказавшись в своей комнате, старушка одним и тем же раздраженным жестом оттолкнула от себя палку и дочь, упала на кровать и, вздыхая, втащила на нее непослушную ногу.
— Тебе больше ничего не нужно, мама?
— Ничего. — Неподвижная странно улыбнулась, потом улыбка вдруг исчезла. — Ногу. Ногу, дура! Принеси мне новую ногу или заткнись и убирайся!
Я решил, что должен поближе рассмотреть такую знаменитую ногу. Возможности для этого были: мне вменялось в обязанность по возвращении из школы «составлять компанию» старушке. О неисполнении немедленно докладывалось, и преступление каралось арестом моих солдатиков (при всегдашней снисходительности в этом отношении мать проявляла совершенно необычную строгость). Вообще говоря, ничего конкретно делать было не нужно, только выслушивать саркастические бабушкины замечания, которые она отпускала с регулярностью, напоминавшей взрывы полевых петард для отпугивания птиц. Но иногда она дружелюбно улыбалась мне, перед тем как произнести своим приятным, мелодичным голосом:
— Мне скучно, бездельник. Возьми книгу.
Я немедленно открывал атлас на странице, отмеченной закладкой, и наугад тыкал пальцем в карту:
— Колорадо?
— Денвер!
— Огайо?
— Колумбус!
Я так и не смог понять, почему этой женщине, никогда не покидавшей пределов городка Мимизана и чихать хотевшей на историю и географию — как, впрочем, и на все остальные виды человеческого знания, — почему ей взбрело в голову, что она должна выучить наизусть столицы Соединенных Штатов. Как бы там ни было, эта специфическая и совершенно бесполезная компетентность доставляла ей самое глубокое удовлетворение. Кроме того, эта тупая игра выполняла еще одну функцию: в больших дозах она ее усыпляла.
— Небраска?
— Линкольн!
— Канзас?
— Ах-ах! Топика!
В конце концов я полюбил эту карту — не ее переливчатые цвета и не ее экзотические названия, тревожившие какие-то смутные отголоски историй об индейцах и ковбоях, — я полюбил сами эти изящные, ирреальные многоугольники, которые образовывали Штаты. «Вот где все должно быть просто и спокойно», — думал я, обводя пальцем евклидовы контуры Монтаны.
— Ну, олух, Топика — правильно или пальцем в зад?
— Да, правильно.
— А ты думал, я такая дура, что скажу «Канзас-Сити», да?
Вскоре ответы подаются уже не так быстро; она сонно клюет носом, вздрагивая при каждом новом вопросе. Я пользуюсь этими гипнотическими мгновениями между дремотой и бодрствованием, для того чтобы существенно отклониться от темы:
— Висконсин?
— Гм-м-м?… Висконсин?… М-м… Мэдисон…
— А от чего умер дедушка?
— Гм-м-м… Дедушка… гм-м… от меня… он умер… от меня…
— А на чердаке — это его комната, да? Почему туда никто не заходит? Что там?
— Хр-р-р… чердак?… гм-м-м!.. дерьмо… там куча дер-р-рь… м-ма…
Как только она засыпает, я склоняюсь над этим непреходящим чудом — идеально круговой границей, отделяющей на уровне ее колена здоровую плоть от больной. Эта чисто геометрическая окружность напоминает мне границу между Оклахомой и Канзасом. Выше колена — розово-серое ровное пространство без каких-либо особенностей; ниже — поверхность, усеянная буграми нарывов и коричневыми кратерами, изборожденная расширенными сосудами, из которых одни — красные, а другие — темно-синие, и почти видно, как по ним бежит кровь. Но за волшебной границей реки вновь уходят под землю, вулканы потухают и горы сглаживаются.
— Нравится моя нога? Хочешь сфотографировать на память?
В первый момент, чересчур поглощенный своими мыслями, я не соображаю, что сейчас последует удар палкой. Но в следующее мгновение вспоминаю, что, перед тем как заснуть, она всегда шумно и с усилием сглатывала, словно принимала таблетку сна, — и едва успеваю отскочить. Взгляд, которым она меня провожает, блестит предвкушением радости, и я вижу самое счастливое выражение, какое только может появиться на этом лице.
— Неподвижная… — восторженно бормочет она, — я тебя и не двигаясь достану…
И обещание честно исполняется. Рано или поздно, в тот же вечер, или назавтра, или через несколько дней, я фатально забываю о нависшей надо мной угрозе и оказываюсь в пределах досягаемости палки; в любом случае у нее в запасе было и другое оружие, а именно тапкомет. Это была техника высшего класса, и если бы я смог ею овладеть, звездная популярность на переменах была бы мне гарантирована. Концом своей палки она стаскивала тапок с больной ноги, раскручивала его, как пращу, и в нужный момент снайперски выстреливала им по любой подвернувшейся цели, как то: мои ягодицы, тартинка с вареньем, которую я собирался проглотить, моя ручка-вставочка, когда, высунув язык, я уже готов был ставить финальную точку в домашнем задании по чистописанию — сколько раз это попадание стоило мне оценки «ноль», — и даже переключатель каналов телевизора. Именно в тот момент, когда Зорро выхватывал шпагу, в воздух взмывал тапок — и дальше я должен был наблюдать за тем, как наскакивают друг на друга Малыш-Красавчик и Батиньольский Крепыш (Неподвижная обожала кетч; она смотрела его, макая печенье в подслащенное вино, причем всасывала жидкость с шумом, от которого у меня, как предполагалось, должны были течь слюнки).