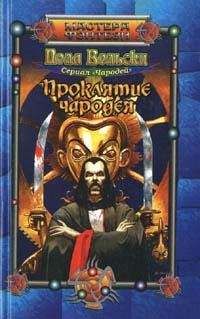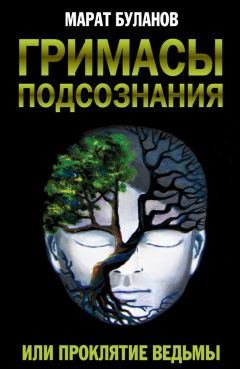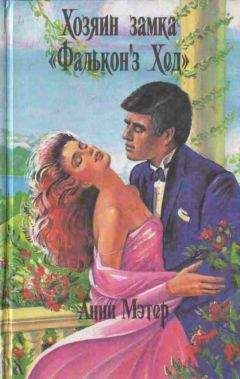Данила Монтанари - Проклятие рода Плавциев
— Однажды вечером много лет тому назад, — объяснил Диомед, — хозяин опьянел, как никогда, и внезапно уснул за столом. Мне пришлось перетащить его на кровать. Ключ висел у него на шее, а я знал одного кузнеца, который мог сделать мне тайком копию…
— Выходит, ты не раз использовал подпись семьи Аврелиев для своих сделок? — строго спросил юноша.
— Сделки эти, однако, оказались весьма выгодными, — уточнил управляющий. — Я заключал договора на земли и недвижимость, приобретая новые инсулы в Остии, молы в Таренте, огороды в Кампании, виноградники и даже мастерскую глиняных сосудов для хранения вина, оливкового масла и зерна у ворот Рима. Я поступал так, потому что был убежден — твой отец пустит все на ветер и погубит нас всех. Но, уверяю тебя, я всегда возвращал все, что брал в долг!
— Тем не менее, ты совершил очень тяжкий проступок.
— Я готов отвечать, хозяин. Как только я увидел, что ты уносишь к себе счета, сразу понял, что пропал, и приготовился к худшему. У меня уже давно хранится веревка, чтобы повеситься, если моя игра раскроется, и теперь пришло время использовать ее. Поклянись мне только, что никогда не расскажешь Парису о том, что я сделал. Если он узнает об этих обманах, то будет стыдиться меня, а это для меня хуже смерти. Он поистине воплощение честности, позаботься о нем, когда меня не станет.
— Ты мог бы предстать перед судом, — предложил Аврелий.
— И утратить уважение Париса? Нет, нет!
— Как хочешь, — согласился Аврелий, сдерживая слезы.
Диомед направился к двери, согнувшись под тяжестью своей вины. На пороге он обернулся:
— Ах, господин, вот еще что. Не забудь, прошу тебя, убрать слово «Младший» из формулы «Публий Аврелий Стаций Младший» на документах о собственности, которые я оформлял на твое имя, иначе теперь, после смерти отца, у тебя могут возникнуть трудности с вступлением в права, — посоветовал он тихим голосом.
— Ты хочешь сказать, что купил все это и записал на мое имя? — спросил потрясенный Аврелий.
— Конечно, хозяин, а ты что подумал? Твой отец оставался неразумным человеком и в конце концов промотал бы твое наследство… Я постарался обезопасить состояние семьи даже ценой того, что допустил непростительное преступление. Раб не может решать за хозяина, а я делал это. И теперь, если хочешь простить меня, позволь мне повеситься на этой веревке, прежде чем будет принято решение…
— Забудь эту глупость, Диомед! — с волнением воскликнул Аврелий и бросился к нему.
— Но имение в Пицине, дом на холме Эсквилин, деньги…
— Это такой пустяк по сравнению с тем, что ты сделал! Оставляю тебя управляющим, надеюсь, Парис захочет пойти по твоим стопам. Подготовь документы вольноотпущенника. Немедленно дарую тебе свободу. Я не намерен больше доверять такое ответственное дело простому рабу!
— Хозяин, я буду служить тебе вечно, а после меня мой сын и сын моего сына! — пообещал управляющий, растрогавшись до слез.
— Это еще что такое! Римляне никогда не плачут, забыл, что ли, Диомед? Теперь осталось только уладить последнее дело. Пришли сюда наставника Хрисиппа, — приказал он управляющему, и тот ушел весь в слезах.
Едва хмурый наставник вошел в комнату, Аврелий помахал у него перед носом розгой.
— Розга эта теперь моя, и я буду делать с нею что захочу, — грозно заявил юноша.
Старый наставник опустил голову и в ожидании удара проклинал свой длинный язык.
Аврелий почувствовал, как у него руки чешутся пустить в ход розгу, но, посмотрев на дрожащего и неожиданно поникшего Хрисиппа, вспомнил примеры благородства, о которых читал в исторических книгах. Это были образцы великодушия, которые старый наставник заставлял его учить наизусть под Удары хлыста. Теперь настал его, Аврелия, черед преподать урок непреклонному учителю.
— Пойди принеси книги. Мы еще не закончили второй том риторики, — приказал он и, переломив розгу, отшвырнул ее в сторону.
* * *Два месяца спустя после того, как Публий Аврелий Стаций облачился во взрослую тогу, Германик, доблестный полководец, любимец Рима, скончался в Антиохии во цвете лет от какой-то загадочной болезни. Кое-кто подозревал преднамеренное отравление, устроенное Плотиной, ближайшей подругой Ливии, матери императора Тиберия. Она и в самом деле лично вмешалась, чтобы спасти виновницу от плахи.
Одно время года сменяло другое, год следовал за годом, вода в водяных часах неустанно капала, отмечая неумолимое течение времени. После смерти Диомеда честнейший Парис занял его место, став управляющим и состоянием Публия Аврелия, и его большим домом на Виминале.
Аврелий послужил в легионе, потом неудачно женился и со временем развелся. Убежденный последователь философии Эпикура,[14] патриций целиком посвятил свою жизнь изучению классиков, путешествиям по многим странам, какие были известны в то время. В Александрии, в Египте, он купил раба, спасая его от виселицы, нахального Кастора, хитрого грека сомнительной честности, которому суждено было стать его бессменным секретарем.
В 41 году — через двадцать с лишним лет с того памятного года, когда Аврелий отмечал свое шестнадцатилетие, — Клавдий, всеми забытый брат Германика, которого так стыдилась семья, взошел на трон Цезарей, поспешив назначить ближайшим помощником опытного Палланта, своего бывшего раба-счетовода… того самого, что однажды помог молодому Стацию разобраться в несходившихся счетах.
Настало лето 44 года. Оно прошло спокойно, без каких-либо особых преступлений, без загадок, которые нужно было бы распутать, без виновных, которых следовало бы разоблачить. После отдыха в Байях[15] Аврелий решил вернуться в Рим и собрался в дорогу вместе со своей подругой Помпонией и верным секретарем Кастором.
Однако до возвращения в Рим им предстояло остановиться в одном месте…
1
Год 797 ab Urbe condita (44 год, осень)
Шестой день перед ноябрьскими календами[16]
— Небольшой караван миновал Лукринское озеро[17] и начал медленно подниматься по склону кратера. — Да, в Байях теперь уже совсем не то, что прежде! — вздохнула Помпония, поудобнее устраиваясь в повозке на подушках, чтобы не испортить свою громоздкую прическу.
— Но, тем не менее, праздников там было немало! — Сенатор Публий Аврелий Стаций, лежавший рядом, с грустью в последний раз окинул взглядом панораму залива.
— На побережье теперь одни мальчики на побегушках — приспешники Клавдия — да чиновники! — посетовала матрона.
— И в самом деле, в этот раз мы встречали там больше дворцовых вольноотпущенников, чем римских сенаторов, — согласился Аврелий. — Но с другой стороны, среди сенаторов мало найдется тех, у кого не было бы деда-торговца или даже раба.
— Конечно! После стольких казней и заговоров настоящих аристократов теперь можно пересчитать по пальцам одной руки, ну а те немногие, кто еще остался, проматывают свое состояние, лишь бы жить, как Крез. Сегодня у любого лавочника не меньше пятидесяти слуг! Если так пойдет и дальше, что останется от великой римской аристократии?
Публий Аврелий покачал головой и добродушно усмехнулся. Он не был согласен с категоричным суждением Помпонии. Времена меняются, подумал он, и приходится с этим считаться. А стенать об ушедшей эпохе, которая уже принадлежит истории, если не стала еще легендой, просто глупо.
— Клавдий правильно делает, — заметил он, — что поддерживает всадников и плебеев-латифундистов. Патриции, похоже, уже совершенно ни на что не способны.
— Забавно — потомок столь знатной римской семьи так говорит о собственном сословии! — не без ехидства произнесла матрона.
— А ты, неизлечимая расточительница, разве сама не жалуешься на сумасшедшие расходы? Удивительно, как только муж твой до сих пор не разорился! — пошутил патриций, отлично зная состояние дел своего друга Сервилия, супруга матроны. — Один лишь прощальный ужин обошелся тебе в полмиллиона сестерциев, и это помимо золотых табличек, которыми ты отмечала места за столом и которые потом щедро дарила на память гостям…
— А эти мужланы прикидывали на ладони их вес, пытаясь оценить стоимость, и даже не заметили гравировки! Нет, ты правильно делаешь, что строишь дом на Питекузе.[18] Байи становятся все вульгарнее: побережье слишком близко к Неаполю… Не понимаю, зачем Сервилий решил там остаться после окончания сезона!
— Для лечения в термах, Помпония, — терпеливо объяснил патриций.
На самом деле бедный Тит после нескольких месяцев изнурительных застолий мечтал только об одном — отдохнуть вдали от своей говорливой и чересчур деятельной супруги.
Тут легкое покашливание за занавеской на окне повозки обозначило присутствие Кастора, вольноотпущенника и секретаря Публия Аврелия.