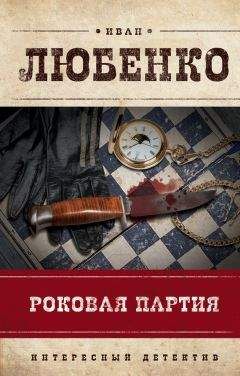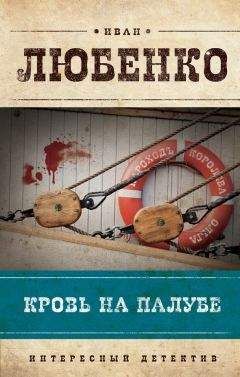Елена Афанасьева - Колодец в небо
Если нельзя изменить неожиданно взбунтовавшийся огненным цветом камень, то не проще ли выточенную на нем камею назначить в дар императору новому, которому подойдет этот огненный цвет волос.
Адриан рыж. Но кучеряв и бородат. Впрочем, эти детали Апелла исправить сумеет, как сумеет быстро превратить уже выточенную Плотину в жену Адриана Сабину.
Адриан племянник императора, его отец был двоюродным братом Траяна.
Его имя можно швырнуть в толпу и получить его обратно гулом народного одобрения.
Адриан молод. Для императора молод – сорок один год. И умен. И – знак камня? – рыж.
Что если камень не навредил убитому горем Апелле, а напротив, послал ему, Марку Тибериусу Приму, знак?!
– Цвет камня мудрее человеческого разума! К тому времени, как ты успеешь закончить камею, Апелла, император будет рыжеволос! Плотина хотела преемника, вот и преемник!
И Марк Тибериус Прим, императорский легендатор, указывает на незаконченный профиль на камне.
– Волосы только сделай покучерявее! – приказывает он Апелле.
И, быстро смыв с себя гранатовое масло, набрасывает тогу.
– Паланкин мне! Скорее! Некогда отмываться. Преемника усыновлять пора! Пора!
3. Злосчастное приобретение
(Ирина. Ноябрь 1928 года. Москва)
И все-таки я успела! Никакой Таисии в «Макизе», по счастью, не было, и заказ, деньгами за который я намеревалась расплатиться с Еленой Францевной, дождался меня. Здешний редактор Васютский, слившись с основным орудием производства – почти разбитым телефонным аппаратом, выбивал для издательства очередные десять тонн газетной бумаги.
– Сколько там рвани или подмочки! Э-не, такие не берут! Лады, согласую! Телефонирую!
Не отрываясь от аппарата, Васютский махнул рукой в сторону папки с предназначенной для перепечатки рукописью, прикрыв трубку рукой, буркнул: «В среду, и ни днем позже!» – и продолжал кричать в телефон следующему собеседнику:
– Акты надо составить! Откуда бумага мокрая?! Наша сухонькая была, суше не придумать! Мокрая-то откуда?! Актов требую! С кем согласовывать? Пакет в «Огонек» закинь, для Кольцова.
Последнее было адресовано не коварному телефонному собеседнику, намеревавшемуся всучить «Макизу» подмокшую бумагу, а мне.
– Не в службу, а в дружбу! Курьер у меня с инфлюенцей свалился. Сорок температура третий день… – И снова закричал кому-то на том конце провода: – Меня вызывают, говорят, что бумага мокрая, битая. Откуда она взялась мокрая? Да, снег был, знаю, что был, но снег не первую зиму! Неужто грузовик без брезента едет?
«Не в службу, а в дружбу» в случае с Васютиным ох какое важное дело. Подброшенные «по дружбе» заказы позволяют мне не только концы с концами сводить, но и ботики иногда покупать. Хоть и такие тощие, как эти – замерзших ног до сих пор не чую, – но модные.
Прежние, окончательно развалившиеся прошлой зимой боты, еще мама когда-то носила. Других бот не было. А хотелось! Хоть я и читала нарочно отмеченный Федорцовым в «Огоньке» очерк Погодина о красотках, которые ради «чулок со стрелками, душераздирающей красной сумочки и духов «Убеган» готовы на все за тридцать рублей», но не спрашивать же вслух, на что сатирически описанные красотки готовы. И при чем здесь тридцать рублей? Я и сама бы не отказалась ни от чулок со стрелками, ни от духов «Mio Boudoir», да где ж их взять! Даже двадцать восемь рублей сорок три копейки, что потратила сегодня в комиссионном на камею, купленную в подарок соседке Ильзе Михайловне, пришлось одалживать из денег другой соседки, Елены Францевны.
До революции Елене Францевне принадлежал весь наш дом в этом ползущем в горку от Неглинки к Рождественке Звонарском переулке, отчего ныне несчастную старушку зачислили в разряд бывших эксплуататорш. В доме этом с 1911 года Ильза Михайловна (или «И.М.», как чаще всего ее называю) с мужем Модестом Карловичем, известнейшим по ту пору в Москве адвокатом, снимали роскошную квартиру из семи комнат с холлом, в котором напольные часы бархатным перезвоном означали каждый прожитый час. Проездом в Крым мы с отцом и мамой заезжали к ним в гости году, видимо, в четырнадцатом – было это еще до того, как папа стал ездить на фронт. Лет пять мне в ту пору было, раз запомнила эти часы да усы пугавшего меня Модеста Карловича.
После того лета меня стало пугать совсем другое – слова «действующая армия», в которую должен был ездить отец; повязка через лицо папиного брата Владимира, который лишился глаза под Скулянами; набивающая содранную с подушки наволочку маминым бельем и платьем пьяная кухарка Анфиса, кричащая, что «таперича опосля революции все кругом обчее».
В эту же квартиру мы приехали из Петрограда в 1918-м. С мамочкой. Уже без отца.
Родственники отца с неровней никогда не общались, и после гибели папы в январе 1917 года в Петрограде мы остались одни. На что юная женщина и маленькая девочка одни прожили почти два года, и не представляю. В конце 1918-го, спустившись из своей уже «уплотненной» квартиры в кишащий крысами подвал нашего дома на Почтамтской, мама не нашла там закупленных с осени дров. Спешащий на заседание какого-то жилищного комитета бывший швейцар пробурчал, что «дрова национализированы на нужды молодой советской республики». Тогда впервые за два года мама села прямо на парадной лестнице и заплакала. Потом собрала маленький чемоданчик («С большим точно ограбят, а так, может, Бог милует, и пронесет!») и ночью через весь город повела меня на вокзал. С тех пор ни в Петрограде, ни в Ленинграде я не была. В памяти остались лишь отливающий золотом в ночном небе купол Исаакиевского собора, совершенно темный Невский проспект, выбивающий слезы ветер и едва различимое возле моего закутанного в капор и платок уха бормотание – ветра? мамы? – «Ничего! Ничего, Иринушка! Потерпи! Скоро все образуется. Скоро. Скоро…»
Мамочка моя – тоже Ирина, в ее честь и назвал меня отец – была сиротой. Когда и что случилось с моими бабушкой и дедушкой и отчего их единственная дочка шести лет осталась без родителей, я так и не узнала. Мамочка не любила об этом говорить, замолкала, а я не спрашивала, боялась ее расстраивать. Приютившие мамочку в доме на Большой Охте дальние родственники сбыли девочку с рук, едва, окончив гимназию, мама поступила учиться на Бестужевские курсы. Дальше ей пришлось заботиться о себе самой. На небольшое выделяемое опекунами пособие снимать самую дешевенькую комнатку в пансионе дородной немки мадам Пфуль на углу Третьей линии и Большого проспекта и частными уроками зарабатывать себе на жизнь. Осенью того, тысяча девятьсот седьмого года заработать себе на жизнь уроками было трудно, но можно, осенью тысяча девятьсот восемнадцатого – нельзя.
Как и бесконечное множество девушек в том тысяча девятьсот седьмом году, мамочка сочиняла стихи. Несколько перевязанных лентой исписанных ее убористым почерком толстых тетрадок лежали теперь в глубине огромного буфета в моей крохотной комнатке. И я почти не могла их читать – мне все казалось, я делаю что-то неприличное, будто в замочную скважину подглядываю за юной мамочкой.
Хороши или плохи были ее стихи – не знаю. Ильза Михайловна до сих пор уверена, что не встреть матушка моего отца, она могла бы стать вровень с самой Ахматовой. Ильза знала Ахматову с тех пор, как Аня Горенко училась в той же Царскосельской женской гимназии, а их матушки ездили в гости друг к другу на чай. Уже после окончания гимназии Ильза встретила Анну Андреевну в Петербурге, куда несколько раз в год, оставив мужа в Москве, уезжала «проветриться», и вместе с давней знакомой стала хаживать на поэтические вечера и прочие «богемные» сборища. На одном из вечеров в большом зале Тенишевского училища Ильза и встретила юную девочку – мою маму, которую привел на вечер Володенька Нарбут, ее сосед по пансиону мадам Пфуль.
Ильза Михайловна потом говорила, что мама моя, верно, нравилась тому Володеньке. Но, желая представать перед поэтическим сообществом в виде разочарованного в жизни и погруженного в ее физиологизмы и неприятности циничного человека, розовощекий, здоровый особым южноукраинским здоровьем своей малой родины Володенька на свою соседку по пансиону старательно не смотрел. Зато на нее очень даже смотрел другой случайно зашедший на поэтический вечер человек – Николай Александрович Тенишев, мой отец.
И папочка влюбился – разве в мамочку можно было не влюбиться! Влюбился без памяти, женился, отказался от наследства, порвал со своей богатой и родовитой, но не признавшей безродную мамочку тенишевской семьей.
Папа пошел работать в почтовое ведомство, от него получил служебную квартиру в доме возле арки главного почтамта, в котором я родилась. Вернее, родилась я 14 сентября 1909 года на другой стороне Большой Невы, в клинике придворного лейб-акушера Дмитрия Отта. Отт обыкновенно принимал роды у императриц и великих княгинь, но известность тенишевской фамилии открыла двери клиники и для моей беременной мамочки. А уж из оттовской клиники меня двухдневную привезли на Почтамтскую. От всей улицы моего детства в памяти моей осталась только нависшая над ней арка почтового ведомства. Маленькой я не любила проходить или проезжать под аркой, опасаясь, что парящее надо мною в воздухе сооружение может упасть.