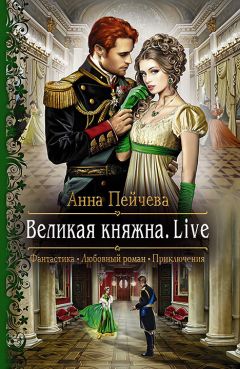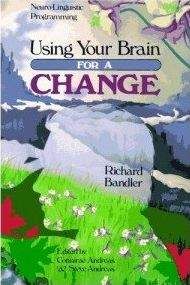Борис Акунин - Пелагия и чёрный монах
Донат Саввич усмехнулся:
— Ах, владыко, не по вашей это епархии, уж поверьте. Этого беса молитовкой да святой водицей не изгонишь. Да и не позволю я у себя в клинике средневековье устраивать.
— Не позволите? — прищурился архиерей, оглянувшись на доктора. — А разгуливать больным меж здоровых позволяете? Что это вы здесь, в Арарате, за смешение устроили? Не разберёшь, которые из публики вменяемые. И так на свете живёшь, не всегда понимаешь, кто вокруг сумасшедший, кто нет, а у вас на острове и вовсе один соблазн и смущение. Этак и здравый про самого себя засомневается. Вы лучше делайте, что вам сказано. Не то воспрещу вашему заведению на церковной земле пребывать.
Коровин далее спорить не осмелился. Развёл руками — мол, делайте что хотите, — повернулся да вышел.
— Пойдём-ка, Матюша.
Епископ ласково взял больного за руку, повёл из тёмной лаборатории в спальню.
— Ты, Пелагия, с нами не ходи. Когда можно будет — кликну.
— Хорошо, отче, я в лаборатории подожду, — поклонилась Лисицына.
Бердичевского владыка усадил на кровать, себе пододвинул стул. Помолчали. Митрофаний смотрел на Матвея Бенционовича, тот — в стену.
— Матвей, неужто вправду меня не узнал? — не выдержал преосвященный.
Только тогда Бердичевский перевёл на него взгляд. Помигал, сказал неуверенно:
— Вы ведь духовная особа? Вот и панагия у вас на груди. Ваше лицо мне знакомо. Должно быть, я вас во сне видел.
— А ты меня потрогай. Я тебе не снюсь. Разве ты не рад мне?
Матвей Бенционович послушно потрогал посетителя за рукав. Вежливо ответил:
— Отчего же, очень рад.
Посмотрел на владыку ещё и вдруг заплакал — тихонько, без голоса, но со многими слезами.
Проявлению чувств, пускай даже такому, Митрофаний обрадовался. Принялся поглаживать убогого по голове и сам всё приговаривал:
— Поплачь, поплачь, со слезами из души яд выходит.
Но Бердичевский, кажется, пристроился плакать надолго. Всё лил слёзы, лил, и что-то очень уж монотонно. И плач был странный, похожий на затяжную осеннюю морось. Преосвященный весь свой платок измочил, утирая духовному сыну лицо, а платок был изрядный, мало не в аршин.
Нахмурился епископ.
— Ну-ну, поплакал и будет. Я ведь к тебе с хорошими вестями, очень хорошими.
Матвей Бенционович покорно похлопал глазами, и те немедленно высохли.
— Это хорошо, когда хорошие вести, — заметил он.
Митрофаний подождал вопроса, не дождался. Тогда объявил торжественно:
— Тебе производство в следующий чин пришло. Поздравляю. Ты ведь давно ждёшь. Теперь ты статский советник.
— Мне статским советником быть нельзя. — Бердичевский рассудительно наморщил лоб. — Сумасшедшие не могут носить чин пятого класса, это воспрещено законом.
— Ещё как могут, — попробовал шутить владыка. — Я знаю особ даже четвёртого и, страшно вымолвить, третьего класса, которым самое место в скорбном доме.
— Да? — немножко удивился Матвей Бенционович. — А между тем артикул государственной службы этого совершенно не допускает.
Снова помолчали.
— Но это ещё не главная моя весть. — Епископ хлопнул Бердичевского по колену — тот вздрогнул и плаксиво сморщился. — У тебя ведь мальчик родился, сын! Здоровенький, и Маша здорова.
— Это очень хорошо, — кивнул товарищ прокурора, — когда все здоровы. Без здоровья ничто не приносит счастья — ни слава, ни богатство.
— Уж и имя выбрали. Подумали-подумали и назвали…. — Митрофаний выдержал паузу. — Акакием. Будет теперь Акакий Матвеевич. Чем не прозвание?
Матвей Бенционович одобрил и имя.
И опять наступила тишина. Теперь молчали с полчаса, не меньше. Видно было, что Бердичевскому безмолвие отнюдь не в тягость. Он и не двигался почти, смотрел прямо перед собой. Раза два, когда Митрофаний пошевелился, перевёл на него взгляд, благожелательно улыбнулся.
Не зная, как ещё пробиться через глухую стенку, архиерей завёл разговор о семействе — для этой цели фотографические карточки из Синеозерска прихватил. Матвей Бенционович снимки рассматривал с вежливым интересом. Про жену сказал:
— Милое лицо, только неулыбчивое.
И дети ему тоже понравились.
— У вас очаровательные крошки, отче, — сказал он. — И как много. Я и не знал, что лицам монашеского звания дозволяется детей иметь. Жалко, мне детей заводить нельзя, потому что я сумасшедший. Закон воспрещает сумасшедшим вступать в брак, а если кто уже вступил, то такой брак признаётся недействительным. Мне кажется, я тоже прежде был женат. Что-то такое припо…
Тут раздался осторожный стук, и в дверь просунулось веснушчатое лицо Полины Андреевны — ужасно некстати. Владыка замахал на духовную дочь рукой: уйди, не мешай — и дверь затворилась. Но момент был упущен, в воспоминания Бердичевский так и не пустился — отвлёкся на таракана, что медленно полз по тумбочке.
Шли минуты, часы. День стал меркнуть. Потом угас. В комнате потемнело. Никто больше в дверь не стучал, не смел тревожить епископа и его безумного подопечного.
— Ну вот что, — сказал Митрофаний, с кряхтением поднимаясь. — Устал я что-то. Буду устраиваться на ночь. Физика твоего всё равно нет, а появится — доктор его в иное место определит.
Улёгся на вторую постель, вытянул занемевшие члены.
Матвей Бенционович впервые проявил некоторые признаки беспокойства. Зажёг лампу, повернулся к лежащему.
— Вам здесь не положено, — нервно проговорил он. — Это помещение для сумасшедших, а вы здоровый.
Митрофаний зевнул, перекрестил рот, чтоб злой дух не влетел.
— Какой же ты сумасшедший? Не воешь, по полу не катаешься.
— По полу не катаюсь, но бывало, что выл, — признался Бердичевский. — Когда очень страшно делалось.
— Ну и я с тобой выть буду. — Голос преосвященного был безмятежен. — Я, Матюша, теперь тебя никогда не оставлю. Мы всегда будем вместе. Потому что ты мой духовный сын и потому что я тебя люблю. Знаешь ты, что такое любовь?
— Нет, — ответил Матвей Бенционович. — Я теперь ничего не знаю.
— Любовь — это значит всё время вместе быть. Особенно, когда тому, кого любишь, плохо.
— Нельзя вам здесь! Как вы не понимаете! Вы же епископ!
Ага! Митрофаний в полумраке сжал кулаки. Вспомнил! Ну-ка, ну-ка.
— Это мне, Матюша, всё равно. Я с тобой останусь. И тебе больше не будет страшно, потому что вдвоём страшно не бывает. Будем с тобой оба сумасшедшие, ты да я. Доктор Коровин меня примет, случай для него интересный: губернский архиерей мозгами сдвинулся.
— Нет! — заупрямился Бердичевский. — Вдвоём с ума не сходят!
И это тоже показалось преосвященному добрым признаком — прежде-то Матвей Бенционович со всем соглашался.
Митрофаний сел на кровати, свесил ноги. Заговорил, глядя бывшему следователю в глаза:
— А я и не думаю, Матвей, что ты с ума сошёл. Так, тронулся немножко. С очень умными это бывает. Очень умные часто хотят весь мир в свою голову втиснуть. А он весь туда не помещается, Божий-то мир. Углов в нём много, и преострые есть. Лезут они из черепушки, жмут на мозги, ранят.
Матвей Бенционович взялся за виски, пожаловался:
— Да, жмут. Иногда знаете как больно?
— Ещё бы не больно. Вы, умные, если чего в мозгу вместить не можете, то начинаете от мозга своего шарахаться, с ума съезжать. А на что иное переехать вам не дано, потому что у человека кроме ума только одна другая опора может быть — вера. Ты же, Матюша, сколько ни повторяй «Верую, Господи», всё равно по-настоящему не уверуешь. Вера — это дар Божий, не всякому даётся, а очень умным он достаётся вдесятеро труднее. Вот и выходит, что от ума ты отъехал, к вере не приехал, отсюда и всё твоё сумасшествие. Что ж, веры я тебе дать не могу — не в моей власти. А на ум вернуть попробую. Чтоб у тебя Божий мир снова меж ушами помещаться мог.
Бердичевский слушал хоть и недоверчиво, но с чрезвычайным вниманием.
— Ты читать-то ещё не разучился? На-ко вот, почитай, что другая умница пишет, ещё поумней тебя. Про гроб почитай, про пулю, про Василиска на ходулях.
Владыка вынул из рукава давешнее письмо, протянул соседу.
Тот взял, придвинулся к лампе. Сначала читал медленно, про себя, но при этом старательно шевелил губами. На третьей странице вздрогнул, шевелить губами перестал, захлопал ресницами. Перевернув на следующую, нервно растрепал себе волосы.
Митрофаний смотрел с надеждой и тоже шевелил губами — молился.
Дочитав до конца, Матвей Бенционович яростно потёр глаза. Зашелестел страницами в обратную сторону, стал читать снова. Пальцы потянулись ухватиться за кончик длинного носа — была у товарища прокурора в прежней жизни такая привычка, посещавшая его в минуты напряжения.
Вдруг он дёрнулся, отложил письмо и всем телом повернулся к владыке.