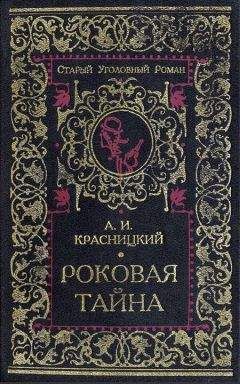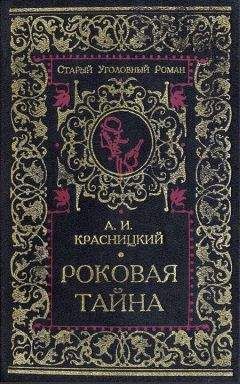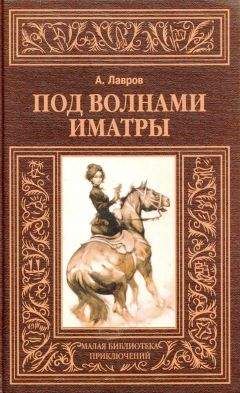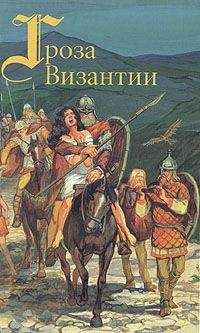Майкл Грегорио - Критика криминального разума
— Очень хорошо, сударь, — возразил Кох, — но ведь у профессора не было возможности проверить истинность того, что нарисовал Люблинский.
Я замолчал на мгновение. С подобным доводом было трудно спорить. И тут меня осенило.
— Брюки Тифферха! — воскликнул я.
— Простите, сударь?
— Вот где доказательство, Кох. В брюках Тифферха. Колени брюк заляпаны грязью. Вы помните? Если моя теория верна, то колени всех жертв должны быть грязными при том условии, что Люблинский точно воспроизводил сцену преступления.
Я оглянулся по сторонам.
— Вон там, Кох! — воскликнул я, указывая на верхнюю полку у дальней стены. — Отодвиньте насос и принесите сюда коробку. Любая подойдет. Чтобы подтвердить свидетельства Люблинского, нам необходимо лишь осмотреть одежду.
Кох притащил длинную плоскую картонную коробку, такую, в которых портные доставляют костюмы и платья. С нарастающим волнением мы сняли крышку. В воздух взметнулось облако пыли, наполнившее и наши легкие.
— Паула Анна Бруннер, — провозгласил Кох, отплевываясь.
Имя женщины значилось на кусочке желтой бумаги, на котором также перечислялось все содержимое коробки. Четкий почерк Канта узнавался сразу.
— «Тонкий зеленый плащ грубого хлопка, — начал читать Кох. — Белая блузка с длинными рукавами. Серое платье из тонкой ткани. Одна пара толстых серых шерстяных чулок. Одна пара деревянных башмаков со стершимися каблуками…»
— Платье, Кох, — прервал я. — Давайте посмотрим платье.
Кох расстелил его на столе и сделал шаг назад. Я подошел поближе, наклонился над ним, перевернул его несколько раз. Мое напряжение нарастало с каждым мгновением.
— Никаких пятен, — пробормотал я, и слова застряли у меня в горле из-за разочарования. — Ни одного грязного пятна на коленях.
— И что это значит, герр Стиффениис?
— Не знаю, — признал я. Голова у меня шла кругом от растерянности.
— Минутку, сударь, — вдруг энергично провозгласил Кох.
Не теряя времени на объяснения, он схватил список, снова перечитал его и принялся за поиски чего-то в коробке с одеждой. Я смотрел на него молча, с досадой наблюдая за тем, как грубо, без малейших признаков благоговения роется он в вещах, столь тщательно собиравшихся профессором Кантом. Я изо всех сил старался подавить желание немедленно остановить его.
— Дайте-ка я взгляну, — сказал он спокойно, вытаскивая пару шерстяных чулок. — У фрау Бруннер, по-видимому, это платье было единственным. Ткань, из которой оно сшито, довольно тонкая, что делает его особенно ценным. Если ей пришлось опуститься на колени на землю, она, естественно, поступила так, как поступила бы на ее месте любая женщина. Она подняла подол своего лучшего туалета, предпочтя испачкать чулки. Видите, сударь?
В голосе сержанта не было ни малейшего намека на торжество.
Подобно Фоме неверующему, я протянул руку и коснулся кончиками пальцев грубой серой шерсти. Чулки были дырявые, много раз чиненные и штопанные. На коленях выделялись два больших грязных пятна.
— Она больше надеялась на то, что от зимних холодов ее защитят эти толстые чулки, чем легкое платье, — продолжил Кох.
— Так просто и так логично, — пробормотал я. — И совершенно определенно. Но отсюда следует и еще один важный вывод: все жертвы опускались на колени перед убийцей по собственной воле, без принуждения. Создается впечатление, что они готовы были помочь преступнику.
В памяти у меня внезапно всплыли слова, прочитанные мной в жутковатой беседе Вигилантиуса с душой Яна Коннена, и меня охватило сильное волнение. Неужели в том, что некромант называл «искусством», действительно содержится какая-то истина?
«Тьма окружила меня после того, как я преклонил колени…»
— Такое впечатление, сударь, что совершался некий ритуал. Какому-то языческому божеству приносились человеческие жертвы. И это, конечно же, вновь указывает в сторону Анны Ростовой, — взволнованно произнес Кох.
Я поспешно остановил его.
— Положите все бумаги обратно в папки. Коробки поставьте на место. Нам так и не удалось с достоверностью установить, является ли Анна Ростова убийцей, но я рад слышать, что вы наконец оценили значимость того помещения, в котором мы сейчас находимся, и его содержимого.
Кох молчал до тех пор, пока не расставил все по местам.
— Что теперь? — спросил он, повернувшись ко мне.
— «И пусть же звезды зренье нам насытят!» — ответил я.
— Звезды, герр Стиффениис? — Кох мрачно воззрился на меня. — Время обеда еще не наступило!
— Я еще не совсем с ума сошел, сержант. Один итальянский поэт воспользовался этой фразой, чтобы описать спасение из адской бездны и возвращение в реальный мир, — с улыбкой пояснил я. — Наши расследования завели нас с вами в преддверие преисподней, Кох. Вначале в подвалы Крепости вместе с Вигилантиусом, затем сюда, в лабораторию. Настало время и для нас вернуться в «Царство Света».
На улице солнечные лучи с трудом пробивались сквозь паутину тонких облаков, затянувших все небо до самого края земли. Редкие хлопья снега порхали в воздухе подобно осенним листьям, подхваченным ледяным ветром. Внизу под нами лежали сверкающие черепичные крыши и длинные острые шпили кенигсбергских церквей. Вдали до самого горизонта на тысячи акров мятым серым шелком протянулось бескрайнее море. Несколько мгновений я стоял, вглядываясь в этот пейзаж и наполняя легкие свежим утренним воздухом.
— Мне необходимо еще раз побеседовать с Люблинским, — сказал я, когда мы сели в экипаж и начали спускаться с холма по направлению к центру города. — Но вначале я должен сделать кое-что еще.
— И что же, сударь?
— Я зайду к профессору Канту. Мы обязаны выразить ему уважение, Кох. Он должен знать, что не совсем обманулся, поверив мне. Боюсь, я был не лучшим из его учеников.
Глава 22
«А теперь давайте посмотрим, кто будет первым. Старший еще не значит умнейший. Помни это, Ханно! Не позволяй брату победить тебя снова. На его хрупких плечах сидит хорошая голова…»
Лучше всего у меня в памяти сохранились те воспоминания детства, которые связаны с моим отцом Вильгельмом Игнацием Стиффениисом. По природе отличавшийся склонностью к строгой дисциплине и порядку, необычайной религиозностью, наш отец не терпел лени и капризов. Но сам нередко предавался своеобразным развлечениям, потешаясь надо мной и моим младшим братом, заставляя нас разгадывать сложнейшие головоломки его собственного изобретения. Конечно, в подобных играх, как всегда, имелся значительно более серьезный замысел. Отец надеялся преподать урок, который сможет в дальнейшем сослужить нам со Стефаном хорошую службу.
Наш фамильный особняк по-прежнему стоит в унылой холмистой местности за Рюислингом. Обширное и несколько хаотичное строение с комнатами, заваленными всякого рода безделушками. Отцу нравилось спрятать какой-нибудь хорошо всем известный предмет, а затем пригласить нас и дать задание найти, что изменилось в окружающей обстановке. Естественно, для нас подобные упражнения служили великолепной тренировкой памяти, так как мы приучались запоминать все, что находилось в доме. К школьному возрасту мы уже наизусть знали, из чего состоит наше будущее наследство.
«Ну-с, парень, что ты можешь сказать? Узорное пресс-папье из французского стекла? Браво, мой мальчик!»
Победитель всегда награждался куском белого хлеба, густо намазанным душистым темным медом с отцовской пасеки. Мед с ароматом каштанов прославил и обогатил семейство Стиффениисов. Для меня и Стефана он был неким концентрированным выражением всех тех черт, которые воплощались в отце: авторитета и требовательности, уверенности в том, что напряженный труд неизменно приносит добрые плоды, понимания того, что твоя щедрость обязательно будет вознаграждена, и усилия, потраченные на преодоление низменных сторон твоей натуры, не пройдут втуне. Попробовать отцовского меда означало для нас получить пропуск в его мир. Вкус меда знаменовал приятие нас отцом. Мрачный взгляд, брошенный на проигравшего, являлся достаточным наказанием. И этот мрачный взгляд оставил глубокий след на моем далеко не идеальном детстве.
Будучи двумя годами моложе меня, Стефан тем не менее был гораздо более сообразительным. Наделенный острым умом и способностью к необычайной сосредоточенности, он постоянно оставлял меня далеко позади. Когда наш отец был занят делами, Стефан придумывал собственные задачи, со временем становившиеся все более сложными и физически небезопасными. И вновь почти всегда я оказывался проигравшим. Стефан был выше, Стефан был сильнее. Стефану судьбой была предназначена блестящая военная карьера. Однако его военной карьере суждено было продлиться всего каких-нибудь шесть месяцев. Отец отвел меня в сторону, когда его любимого сына привезли в карете, и сообщил о диагнозе, поставленном врачом.