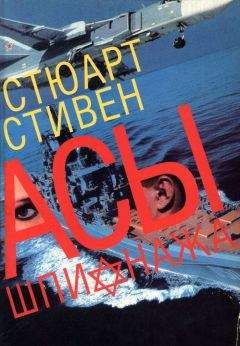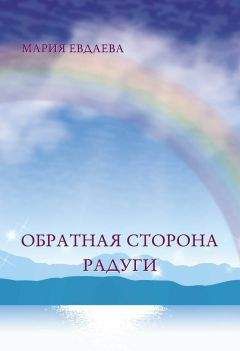Павел Сутин - Апостол, или Памяти Савла
– Софья Георгиевна, там у вас в гостиной фотография… Это Пастернак?
– Да, это Борис Леонидович Пастернак.
– А рядом, над роялем – это кто?
– Саша Гинзбург.
– В смысле – Александр Аркадьевич?
– Да.
– Так он тоже бывал у вас?
– Вы сидите в его любимом кресле. – Курганова грустно улыбнулась. – Он в этой квартире не раз витийствовал. Когда его поисключали отовсюду, даже от поликлиники Литфонда открепили, варвары, – мы с мужем устраивали здесь его домашние концерты. Саша был большой, барственный… Бесконечные бабы… Ангелину свою, впрочем, боялся, как огня. Каждый раз, когда она его ловила, он такой спектакль устраивал – сердечный приступ, удушье… А потом: «Да как ты могла подумать?!»
«И я теперь, значит, здесь…» – подумал Дорохов и еле заметно поерзал в кресле Саши Гинзбурга.
* * *…прекрасно, мастер Джусем! Да, это место отменно! Вы знаете, мастер – а ведь это поэзия!
– Это лаконично и красиво, адон, – улыбаясь, сказал Пинхор. – А все, что красиво, и есть поэзия.
– Да, – протянул Севела. – И заметьте, мастер, – поэзия не нуждается в правоте. Ей достаточно одной лишь красоты.
– Не соглашусь, адон, – деликатно возразил Пинхор и расправил на коленях складки галабеи. – Настоящая поэзия это гармония. А где гармония, там и правота.
– Я во многих ваших фразах, мастер, слышу умопостроения иеваним, – сказал Севела и прищурился. – Вы сильны в афористике, мастер.
– А вы, мне кажется, заражены прагматизмом романцев, адон Малук, – мягко сказал Пинхор.
– И все же вернемся к этому пастуху…
– Но он не был пастухом, адон! – запротестовал Пинхор. – Это молва назвала его пастухом. Вполне может быть, что он недолгое время пастушествовал. Но это было до того, как он примкнул к братьям-галилеянам.
– Что еще он говорил?
– Он писал. Говорили другие. Саул Генисеретский был заикой. Рассказывают, что слушать его было сущим мучением… Но писал он непревзойденно! Два года тому назад он умер от холеры. Странствовал по Десятиградию, а там начался мор. Саула сопровождал писарь. Он его и похоронил. Записи Саула Генисеретского писарь привез в Тир и передал братьям-галилеянам.
– И как, вы говорите, это называется?
– «Основания», адон. Саул назвал это: «Основания».
– Прочтите еще, – попросил Севела.
– Ну вот, скажем, это… «Избирайте узкие ворота. Ибо в ворота широкие заходят все подряд. В широкие ворота войти проще – да только ведут они к погибели. А потому к погибели короче попасть через широкие ворота». Или вот еще. «Ежели дерево приносит плохие плоды или вовсе никаких не приносит, нужно ли оно? На одно сгодится такое дерево – срубить его и развести из него огонь. И будет тогда польза – огонь».
– А вот это излишне мудрено, – сказал Севела. – Скажете, нет?
– Я скажу другое, адон, – значительно произнес мастер Пинхор. – Мне не довелось встречаться с Саулом Генисеретским. Но, по словам почтенного Амуни, Саул был простым и веселым человеком. И первая редакция его «Оснований» была очень… непринужденной. Он допускал и крепкое словцо, и всякие двусмысленности. Перемежал поэзы простонародными поговорками, иной раз грубоватыми и даже непристойными. А писарь, что шесть лет путешествовал с Саулом, после его кончины объявил себя единственным наследником поэз. Он попытался придать писаниям Саула строгость и величие. Эта правка оскопила остроумные тексты насмешника и праведника Саула Генисеретского.
– Увы, это судьба многих замечательных текстов, – заметил Севела. – А есть у галилеян другие такие умники? Или тот заика был единственным?
– Единственным острословом? Ну что вы! Вот, к примеру, Зарха из Вифании… Едко высмеивал периша и саддукеев. Потому-то синедриональные кохены объявили, что сочинитель памфлетов Зарха смущает умы и клевещет. Всем квартальным Провинции велено доносить, если кто-нибудь из джбрим будет замечен в чтении памфлетов Зархи. Он три года прожил в поселении эссеев. Сочинил множество прекрасных поэз и проповедей. Братья-эссеи кормили и одевали Зарху все три года, но после все же выставили его за ворота.
– Почему?
– Он горький пьяница, Зарха из Вифании, – сокрушенно сказал Пинхор. – И любит мальчиков. Братьям-эссеям надоел всегда пьяный памфлетист, растлевающий мальчиков. Эссеи прогнали Зарху, с тех пор он живет в Тире. Там его терпят. Он написал трактат «О плотском». Ничего, кстати, плотского в нем нет. Вот послушайте: «Не собирайте себе сокровищ на земле, ни к чему это, глупо и суетно. Земные сокровища крадут воры, их отнимают грабители, их вытягивают в тяжбах судейские и вымогают разведенные жены. Их вожделеют нетерпеливые наследники и видят пожертвованием кохены. Нет толку от сокровищ, что на земле, одни хлопоты и страх, суета и морока. А копите-ка лучше сокровища на небе, там не властны ни моль, ни тлен, ни воры. А где сокровище – там и твое сердце. Ежели сердце твое в сундуках да погребах – пожалеть остается такое сердце. А вот коли на небе твои сокровища – так и сердце твое на небе». Каково, адон?
– А как такой Зарха прибился к галилеянам? Он ведь пьяница?
– А что с того, что он пьяница? – спросил Пинхор со снисходительным смешком. – Пьянствует-то тело Зархи. А разум его изощрен и свободен. Думается мне, адон, что пьянство на пользу разуму Зархи.
– И такое бывает. Вы уже двоих одаренных людей назвали. Сдается мне, что ваши единоверцы-галилеяне прибирают всех стоящих. Но Амуни, насколько мне известно, аскет. Как такие люди, как Менахем Амуни, уживаются с такими, как Зарха?
– Превосходно уживаются, адон! – заверил Пинхор. – Иногда дружат, иногда ссорятся и спорят. У галилеян принято ценить главное в человеке – талант, совесть, способность сострадать. За талант и совесть галилеяне могут простить человеку пьянство и любострастие.
– Этим они привлекли вас? – спросил Севела и искоса посмотрел на гончара.
– И этим тоже. Вы не в первый раз спрашиваете, чем очаровали меня галилеяне. Это люди, адон, понимаете, люди. Ни в одном другом сообществе нет такого количества талантливых людей, как среди галилеян. Отчего так получилось? Не знаю. Однажды я приехал в Тир и оказался на собрании в доме почтенного рав Менахема. Меня пригласил туда рав Амуни. Я, помнится, не хотел идти. Но Амуни уговорил меня. Он может уговорить кого угодно. Вы ведь, наверное, уже беседовали с ним, да? Это человек необыкновенного обаяния!
– Нет, я не беседовал с Амуни, – сказал Севела и покачал головой. – Обаянием рав Амуни наслаждается другой офицер. Так что там было на том собрании в Тире?
– Рав Амуни привел меня в скромный дом возле порта. Небогатый, но чистый и гостеприимный дом. Хозяин, рав Менахем бен Ют, служит топографом в тамошнем администрате, у него большая семья, шесть дочерей и два сына. Меня встретили очень приветливо. Мне показалось, что это радушие проистекало оттого, что меня привел Амуни. Я подумал, что если бы он привел в тот дом уличного пса – так и пса встретили бы с почтением.
– Ерунда. Что вы говорите, какие псы? Вас тепло приняли потому, что вы располагаете к себе, вот и все. И что было дальше?
– Собралось множество людей. Поначалу была произнесена недолгая проповедь о пользе общественного радения. В Тире тем годом начали строить акведук, и рав Менахем отправлял сыновей на работы. Молодые люди исправно трудились, Тирский администрат выделил их в послании наместнику. Читал проповедь сам рав Менахем. После началась трапеза. А потом Зарха – он тоже был там – выпил вина и стал читать фрагменты памфлетов. И, вы знаете, все эти доброжелательные и достойные люди, что собрались в доме Менахема – они так веселились! Они вдруг позабыли всю сдержанность, отставили тарелки с едой и взялись за кружки. Они веселились, как юные студиозусы!
– Ну еще бы! – понимающе кивнул Севела. – Еще бы они не веселились! Я и сам от души веселюсь, когда как следует берусь за кружку.
– Это-то мне и понравилось! – горячо сказал гончар. – Почтенные люди выслушали дельную проповедь, а после взялись за кружки с кносским, как подобает в компании добрых друзей. Я вдруг почувствовал себя дома. Всю жизнь живу в Ерошолойме, это город не из последних, я всякое здесь повидал. И людей видел самых разных. Но только на собрании у рав Менахема я чувствовал себя так славно.
– А вы не очень-то привержены к Ерошолойму, мастер. Верно?
– Увы, но Ерошолойм – это задворки мира, – с сожалением сказал гончар. – Здесь мало пытливых и открытых людей. А когда я встретился с рав Менахемом и его друзьями…
– И что же случилось тогда?
– Я ощутил себя свободным. Я понял, что в том доме, в кругу тех людей мне место. Как будто я убежал из глуши – вот как я себя почувствовал.
И тут Севела вдруг вспомнил, как когда-то хотел любой ценой сбежать из Эфраима.
– С вами никогда не бывало такого? – спросил гончар.
– Бывало, – ответил Севела. – И я не люблю захолустье.