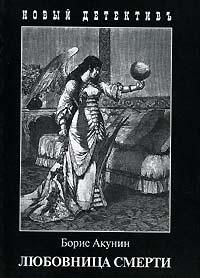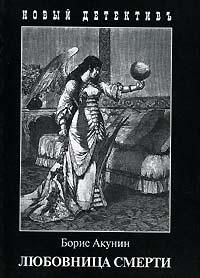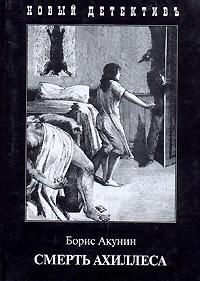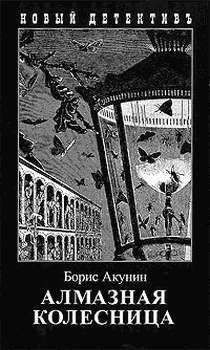Борис Акунин - Любовник смерти
И уж за локоть ухватил, хочет тащить куда-то. И ведь брешет, поди, про билет – просто девушкой задарма попользоваться хочет.
– Мне к господину полковнику, – строго пискнул Сенька. – Письмо передать, важное.
Пёс и отцепился. Иди, говорит, прямо, а потом направо. Его высокоблагородие там сидят.
Скорик пошёл, куда сказано. Мимо курятника, где отловленные бродяги сидят, мимо запертых камер с ворами-преступниками (те, сердешные, пели про чёрного ворона – заслушаешься). Потом коридор почище стал, посветлей и привёл Сеньку к высокой кожаной двери с медной табличкой «Пристав. Полковник И.Р.Солнцев».
На деликатный Сенькин стук строгий голос из-за двери сказал:
– Ну?
Скорик вошёл. Пискляво поздоровавшись, протянул письмо:
– Вот, просили передать самолично. И хотел немедленно ретироваться, но пристав негромко рыкнул:
– Ку-да?
Грозный полковник сидел за столом, ел яблоко, отрезая дольки узким ножиком. Вытер лезвие салфеточкой, потом нажал какую-то кнопку, и клинок с железным щелчком спрятался.
Распечатывать конверт Солнцев не спешил, внимательно разглядывал посетительницу, особенно задержался взглядом на фальшивом бюсте (эх, перестарался господин Неймлес, больно много ваты понапихал).
– Кто такая? Гулящая? Имя?
– С-Санька, – пролепетал Скорик. – Александра. Александрова.
– Что за письмо? От кого?
Солнцев подозрительно ощупал конверт, посмотрел на свет.
Чего говорить-то?
– Клиент один дал… Наказал: самому господину полковнику, говорит, передай, в собственные руки.
– Хм, тайны бургундского двора, – пробормотал пристав, вскрывая конверт. – Стой здесь, Александрова. Жди.
Быстро пробежал письмо глазами, дёрнулся, расстегнул крючок на жёстком вороте, облизнул губы и стал читать сызнова. Теперь читал долго, будто пытался разглядеть что-то между строчками.
Сенька даже соскучиться успел. Хорошо на стене фотокарточки висели и газетные вырезки в рамках, под стёклами.
Интересней всего была картинка из журнала. На ней, молодцевато подбоченясь, стоял Солнцев, помоложе, чем сейчас, а рядом, в поставленном на попа дощатом гробу – усатый дядька с чёрной дыркой во лбу. Внизу подпись: «Молодой околоточный надзиратель кладёт конец преступной карьере Люберецкого Апаша».
Ниже статья, без картинки, но зато с большущим заголовком:
«Арестована шайка фальшивомонетчиков. Браво, полиция!»Фотография, без подписи: Солнцеву жмёт руку сам князь-губернатор его высочество Симеон Александрович – тощий, огромадного роста, да ещё подбородок задрал, а пристав, наоборот, наклонился и коленки присогнул, но рожа, то есть лицо, улыбчивое и довольное-предовольное.
Ещё статья, не шибко старая, не успела пожелтеть: «Самый молодой участковый пристав Москвы», из «Ведомостей московской городской полиции». Сенька прочёл начало: «Блестящая операция по арестованию банды хамовнических грабителей, выданных одним из членов сего преступного сообщества, вновь заставила говорить о таланте подполковника Солнцева и обеспечила ему не только внеочередное производство в чин, но и назначение в один из труднейших и приметнейших участков Первопрестольной, на Хитровку…»
Дальше прочесть не успел, потому что пристав сказал:
– Тэк-с. Ин-те-ресное послание.
Оказалось, что смотрит он при этом уже не на письмо, а на Сеньку, и нехорошо смотрит, словно собирается развинтить его на детали и понять, что там у Сеньки внутри.
– Ты, Александрова, чья? Кто твой кот?
– Я сама по себе, вольная, – немножко поколебавшись, ответил Скорик. Назовёшь какого-нибудь кота, хоть того же Студня, а вдруг полковник проверить вздумает? Есть, мол, у тебя, Студень, такая мамзелька? Неаккуратно выйдет.
– Это ты раньше была вольная, – недобро улыбнулся пристав. – Да вся вышла. С сего дня будешь на меня фурсетить. Девка ты, по всему видно, шустрая, глазастая. И собой недурна, грудастенькая. Голосишко, правда, противный, но тебе ведь не в опере петь.
И хохотнул. Вот, гад, в фурсетки решил приписать! Это мамзелек, которые псам на своих кукуют, так зовут. За такое, если фартовые или воры узнают, расплата одна – кишки наружу. Если найдут где гулящую с распоротым брюхом, всем ясно, за что её. А уж кто – это поди вызнай. И все же немало мамзелек, которые фурсетствуют. Само собой, не от хорошей жизни. Прижмёт такой вот подлый пёс – попробуй открутись.
Сеньке-то что, фурсеткой так фурсеткой, однако уважающая себя мамзелька должна была покобениться.
– Я девушка честная, – сказал он гордо. – Не из тех шалав, которые псам на своих кукуют. Ищите себе других кукушек.
– Что-о?! – заорал вдруг пристав таким ужасным голосом, что Скорик обмер. – Это ты кого «псами» назвала, стеррррва?! Ну, Александрова, за это я на тебя штраф запишу. На уплату – три дня. А потом знаешь, что будет?
Сенька помотал головой – испуганно, и уж безо всякого притворства.
А Солнцев с крика перешёл на вкрадчивость:
– Объясню. Если ты мне в три дня штраф за оскорбление не выплатишь, я тебя на ночь в третью камеру запру. Там у меня знаешь кто? Преступники, больные чахоткой и сифилисом. По новому гуманному указу ведено держать их отдельно от прочих арестантов. Они ночку с тобой поиграются, а там поглядим, что к тебе скорей привяжется – французка или чахотка.
Похоже, пора было от девичьей гордости отходить.
– Чем же я заплачу, – плачущим голоском сказал Сенька. – Я девушка бедная.
Полковник хмыкнул:
– Так бедная или честная?
Скорик потёр рукавом глаза – вроде как слезы смахивает. Жалостно шмыгнул носом. Мол, вся я ваша, делайте со мною что хотите.
– То-то. – Солнцев перешёл с угрожающего тона на деловой. – Ты с человеком, который тебе письмо дал, спала?
– Ну, – осторожно сказал Сенька, не зная, как лучше ответить.
Пёс покачал головой:
– Надо же, как опростился наш чистоплюй. В прежние времена нипочём бы с гулящей не спутался. Видно, нашёл в тебе что-то. – Он вышел из-за стола, взял Скорика двумя пальцами за подбородок. – Глазки живые, с чертенятами. Хм… Где дело было? Как?
– У меня на квартере, – принялся врать Сенька. – Очень уж барин жаркий, прямо огонь.
– Да, он ходок известный. Вот что, Александрова. Штраф ты мне выплатишь следующим манером. Скажешь этому человеку, что влюбилась в него до безумия или ещё что-нибудь выдумаешь, но смотри, чтобы при нем была. Раз он в тебе что-то усмотрел, то, верно, не прогонят. Он у нас джентльмен.
– Где ж мне его сыскать? – пригорюнился Сенька.
– Про это я тебе завтра скажу, – загадочно улыбнулся пристав. – Давай жёлтый билет. У меня пока полежит. Для верности.
Ай, незадача. Скорик глазами захлопал, чего сказать – не знает.
– Что, нету? – Солнцев хищно овклабился. – Без билета промышляешь? Хороша. А ещё фурсетить брезговала. – Эй! – заорал он, повернувшись к двери. – Огрызков!
Вошёл городовой, встал навытяжку, истово выпучил на начальство глаза.
– Эту сопроводишь до дому, куда укажет. Изымешь вид на жительство, привезёшь мне. Так что удрать тебе, Александрова, не удастся.
Он потрепал Сеньку по щеке.
– А приглядеться – пожалуй, в самом деле что-то есть. У Фандорина губа не дура. – Опустил руку, пощупал Скорикову задницу. – На фундамент тощевата, но я мегрешками не брезгую. Надо будет тебя попробовать, Александрова. Если, конечно, от чахоточных откупишься.
И заржал, жеребец поганый.
Как только Смерть с ним, подлым, миловаться могла? Уж лучше бы, кажется, в петлю.
А ещё Сеньке стало жалко женщин, бедных. Каково им на свете жить, когда все мужчины сволочи и паскудники?
И что все-таки такое «фандорин»?
Как Сенька сдавал экзамен
С пучеглазым псом Сенька поступил просто. Сказал ему, что проживает на Вшивой Горке, а как пошли переулками к Яузе, подобрал подол, да и дунул в подворотню. Городовой, конечно, давай в свисток дудеть, материться, а что толку? Мамзельки-фурсетки и след простыл. Будет Огрызкову от пристава «штраф», это как пить дать.
Всю дорогу домой Скорик ломал голову: что ж он там такого в подвале увидал или услыхал, из чего Эраст Петрович с Масой сразу догадались, кто убийца?
Раскидывал, раскидывал мозгами, прямо замучил их гимнастикой, но так и не допетрил.
Стал тогда про другое дедуктировать. Что же такое удумал многоумный господин Неймлес? Это ведь помыслить страшно, какую кашу заварил. Как её расхлёбывать? И, главное, кому? Что если некоему молодому человеку, притомившемуся быть игрушкой в руках птицы-Фортуны? То она, шальная, взмахнёт крылом, вывалит на сирого, убогого свои заветнейшие дары – и любовь, и богатство, и надежду, то вдруг повернётся гузкой и нагадит счастливцу на куафюру, отберёт все дары обратно и ещё нацелится в придачу утырить у бессчастной жертвы самое жизнь.