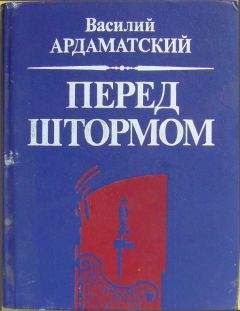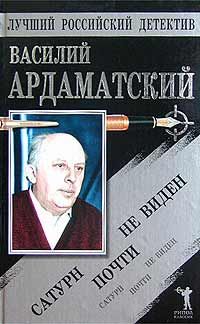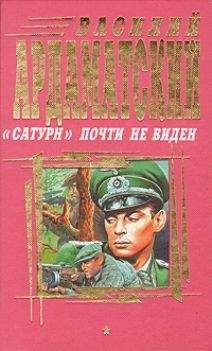Суд - Ардаматский Василий Иванович
Номер в гостинице достался Лукьянчику с окном во двор — темно и вдобавок холодно. Не зажигая света, не раздеваясь, он лег на постель. Последнюю ночь в Якутии он провел без сна на аэродроме, во время полета не мог сомкнуть глаз, ему отчего-то было страшно, а минувшую ночь маялся в общем жестком вагоне поезда. Сколько ни бился, не мог заснуть и здесь. Во дворе гостиницы кто-то звонко лязгал железом — будто ударит молотом по рельсу и ждет, пока звук, пометавшись во дворе, замрет, и тогда снова ударит.
А раз нет сна, надо думать. И он думал… Ему захотелось найти в своей жизни то место, где он сделал сбивший его с пути роковой шаг. Он как бы медленно шел по следам собственной жизни, иногда останавливался — не здесь ли? Придирчиво припоминал, как все было, и приходил к выводу, что тут он поступил правильно, и шел дальше. И только по поводу двух моментов своей жизни он остался не очень уверен, что его решение там, в далеком уже прошлом, было единственно правильным.
Первый момент — это вступление в партию. Может, все-таки не стоило? Пошла бы жизнь совсем иная, без оглядки на это звание и без того, что однажды требуют положить партбилет на стол и потом в течение часа обзывают тебя всякими грязными словами и надо молчать. У него прямо в ушах стоит жестяной голос секретаря горкома Лосева: «Вы пробравшийся в партию гнусный вор, вонючий взяточник!»
В самом деле, без этого красного билета жить было бы полегче, рассказывают, только когда-то, в двадцатые годы, партбилет определял всю судьбу человека. Но, с другой стороны… Что с другой стороны? — переспрашивает он себя. Что? Может, за всю жизнь один раз тот билет и пригодился, когда его в исполком выдвигали. До того он, несмотря ни на что, ходил в передовиках стройки, в этом билет не помогает, тут надо было вкалывать и еще надо было ловчить, а в этом билет снова мог стать помехой… Ну хорошо, партбилет вознес его на пост председателя райисполкома, а что это — медовый пост? Оклад как у директора универмага, а ответственности и неприятностей как у министра. В общем, выходило, что вроде бы вступать в партию было совсем не обязательно; во всяком случае, без этого жил бы он вольготней и спокойнее. Но ничего, теперь он будет жить уже без этого…
Второй сомнительный момент — женитьба. Пожалуй, жениться ему на проректорской дочке было без надобности. Поточнее будет так: если бы с ее отцом не случилось беды, тогда и женитьба могла стать во всех отношениях полезной и счастливой. Но тесть рухнул буквально в первую брачную ночь молодых, и конечно же, как потом вокруг ни старались делать вид, что он, Лукьянчик, тут ни при чем и, можно сказать, на чужих похоронах плакальщик, а все же с жизненными планами, которые тогда проклевывались, пришлось расстаться. Он лишился даже права покапризничать, получая распределение. Сказали — в Южный, он и глаз не поднял. А там уже все надо было решать, полагаясь только на себя и помня, что на руках у тебя дочка посаженного за решетку проректора. Словом, женитьба жизни ему не облегчила. А был, между прочим, другой вариант — дочка генерала; правда, она не такая красавица, как Таня, и была куда постарше, и замужем успела побывать, но жил бы он у того генерала за спиной спокойно, как в крепости… Лукьянчик думает еще, что лучше всего было бы вообще не торопиться с женитьбой, пожить сперва в одиночку, положить крепкий фундамент судьбы, а потом уж и жену взять по самому строгому выбору. Крах тестя нанес удар и по особой голубой мечте Лукьянчика — он хотел заиметь службу, связанную с поездками за границу. У него были знакомые с такой службой, и были они вовсе не боги, такие же, как он, люди. Их рассказы о том, как там все за рубежом на самом деле, он слушал затаив дыхание и со жгучей завистью представлял себе всякие дешевые универмаги, ломящиеся от изобилия товаров, или всякие там важные приемы, когда все в черных костюмах пьют коктейли с роскошными дамами…
Однако, став районным мэром, он все-таки прорвался за границу, побывал во Франции. Вот и сейчас он стал вспоминать во всех самых мелких подробностях свою поездку, и так прекрасно увиделось ему все, что там было, что он незаметно для себя блаженно заснул под звяканье металла во дворе гостиницы.
Воздушный лайнер летел в Париж. Но это был уже не тот лайнер и не тот полет, когда Лукьянчик в составе делегации города Южный летел во французский город-побратим и волновался, не представляя себе, как же он будет жить среди людей, которые все поголовно говорят только по-французски, и на сопровождающего делегацию переводчика смотрел как на волшебника. Нет, нет, сейчас рейс уже не тот. Совсем не тот…
Стюардессы не отходили от Лукьянчика.
— Мосье Лукьянчик, — щебетали они по-русски с французским акцентом, — не пожелаете ли коньячку? У нас исключительно отборный.
— Мосье Лукьянчик, не пожелаете ли кока-колы? Платить не надо, у нас все бесплатно.
— Мосье Лукьянчик, не соизволите ли посмотреть в окошечко, внизу как раз Европа и, в частности, Мюнхен — гнездо разгромленного вами германского фашизма…
Но он не хотел ни того, ни другого, ни третьего. Он готовил ответственную речь, которую скажет в Париже на аэродроме Орли во время торжественной встречи… Во второй раз летит он в гости к тому французскому рыбаку Филиппу Рени, но теперь только тот уже не рыбак, а владелец трансатлантической пароходной компании. Он показал, чего могут достигнуть инициативные еврокоммунисты, теперь он вообще, говорят, вышел из партии, чтобы помогать рабочим другим путем.
Но и Лукьянчик летит к нему не лыком шит, он уже давно не какой-то там… но… не надо об этом, он и сам не любит афишировать себя, и в Москве ему намекнули, когда провожали, что его фамилия и должность должны говорить сами за себя.
Но вот и Париж. На борт самолета поднимается советский посол, он идет по салону прямо к Лукьянчику, поздравляет его с благополучным прилетом и тепло жмет ему руку. Они выходят из самолета вместе, и посол шепчет ему:
— Пресс-конференцию мы отменили — одна потеря времени, и правды они все равно не напечатают… Филипп Рени с семьей ждет вас в официальном зале аэропорта, там произойдет более чем краткая церемония. Что-то скажет Рени, что-то вы, легкий коктейль, и сразу все едут в резиденцию, которую вам отвел Рени. Да, чуть не забыл предупредить — у Рени новая супруга, она кинозвезда, не назовите ее по ошибке именем старой жены, может случиться международный скандал. В машину к Рени вы, на всякий случай, не садитесь, на все время вашего пребывания я предоставляю вам свой «кадиллак» с шофером. Но Рени к себе в машину пригласите, это будет эффектно…
Все прошло как по маслу. Филипп Рени — красивый, слегка поседевший — обнял Лукьянчика и сказал по-русски:
— Здравствуйте, мой старый друг…
Эти же слова в ответ по-французски произнес Лукьянчик.
Ну, там и еще всякие «добро пожаловать», «хлеб-соль», «борьба за мир и разрядку», а потом все вышли из здания. Стояла целая вереница иномарок одна другой лучше и дороже. Филипп Рени небрежно показал на свой «ягуар»:
— Садись, друг, ко мне…
Но в это время к Лукьянчику подкатил черный «кадиллак», и шофер, или еще там кто-то, распахнул дверцу:
— Пожалуйста, мосье Лукьянчик.
— Садись, друг, ко мне, — позвал Лукьянчик Филиппа Рени, и тот вместе со своей кинозвездой влез в лукьянчиковский автомобиль.
Кавалькада тронулась…
Филипп и его звезда всю дорогу болтали Лукьянчику по-французски, и он странным образом все понимал, но в разговор, как ему советовали в Москве, не ввязывался, а мотал, как говорится, на ус…
В резиденции, размещенной на берегу реки, надо думать — Сены, пели птицы, а по дорожкам, покрытым битым кирпичом, прогуливались похожие на взрывы павлины. Лукьянчика заинтересовало, как это французам удается так мелко, почти в просеянную крупу, бить кирпич? Филипп Рени пояснил, что на то есть такая машина «Кирпичемолка». Лукьянчик засек эту машину — надо подсказать Внешторгу купить ее.