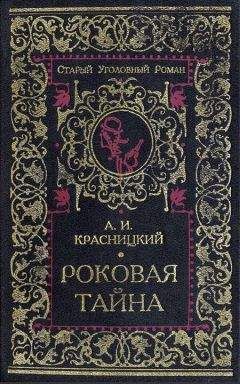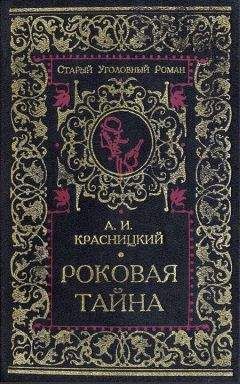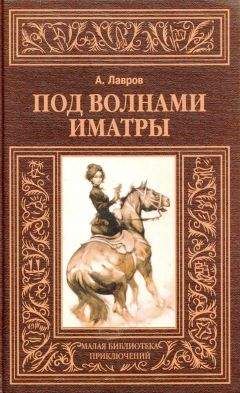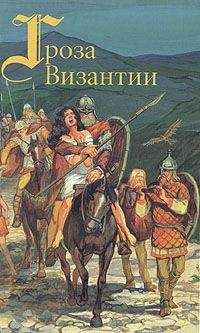Майкл Грегорио - Критика криминального разума
— Спасибо, Кох, — ответил я и попытался улыбнуться. — Вы мне как нянька.
Его непроницаемое лицо немного смягчилось.
— Следуйте за мной, сударь.
Я все больше склонялся к мнению, что при всех моих оплошностях по крайней мере одно правильное решение я все-таки принял. После всех сложностей, с которых начиналось наше знакомство, сержант Кох показал себя с лучшей стороны. Распахнув дверь, он провел меня в обширное сводчатое помещение, жарко натопленное керамической печью гигантских размеров.
— Гарнизонная столовая, — пояснил он.
В воздухе стоял густой запах пота и вареной баранины, однако меня он не раздражал. После ароматов кантовской лаборатории — смеси метилового спирта с запахами разлагающейся человеческой плоти — здешние казались мне вполне приемлемыми. Это были запахи живых людей, занимавшихся важными делами: работой, едой, защитой города и его обитателей.
Кох усадил меня, затем куда-то удалился и вернулся несколько минут спустя вместе с молодым солдатом в белом фартуке, поставившем передо мной поднос. На нем была чашка бульона из баранины с плававшими в ней толстыми хрящами, черный хлеб и красное вино. Солдатская трапеза. Я набросился на нее с волчьим аппетитом, а Кох стоял рядом с видом гордого ресторатора.
Почти сразу же я почувствовал себя намного лучше.
— Не для слабых желудков, Кох, — скачал я между двумя очередными ложками бульона, — но, пожалуй, самая вдохновляющая еда, которую я когда-либо ел в жизни. А теперь, что вы можете сообщить мне о женщине, нашедшей первый труп, и о жандарме, разговаривавшем с ней?
Я проглотил еще ложку бульона.
— Как его зовут?
— Люблинский, сударь.
— Вы с ним беседовали?
Он кивнул.
— Весьма своеобразный человек, герр поверенный, — ответил Кох.
Я перестал есть и взглянул на него:
— Что вы имеете в виду?
— Сами увидите, сударь, — ответил сержант с неловкой улыбкой. — По моему мнению, было непростительной ошибкой оставлять столь деликатное дело в руках грубых солдат. Когда речь идет о сражении, они знают, что им делать. Но попросите их поговорить с женщиной, и невозможно предсказать, что из этого выйдет.
— Он проживает здесь? — спросил я, отхлебывая вино.
— Он в лазарете, сударь.
— Он болен?
— Не совсем. — Кох поднес палец к щеке. — У него здесь рана. Создается впечатление, что кто-то ударил его шпагой.
— На дуэли?
— Люблинский, вероятно, будет отрицать данный факт. Солдаты, как правило, все отрицают.
— Я хотел бы поговорить с ним прямо сейчас.
Кох указал на поднос:
— Может быть, вначале вы закончите трапезу, сударь?
— Он один из следователей, Кох. Чем скорее я его увижу, тем лучше.
— Я пойду и позову его из лазарета.
Кох ушел, а я завершил еду. К тому времени когда Кох вернулся в компании Люблинского, я снова почувствовал прилив сил.
Когда офицер вошел в комнату, в первое мгновение я не обратил на него внимания, а налил себе еще вина в бокал и выпил до дна, чувствуя, как теплая жидкость растопила холод ужасного утра и еще более ужасного дня.
— Стойте здесь, — услышал я слова Коха. После чего он обошел вокруг стола и замер рядом со мной, подобно ангелу-хранителю.
Люблинский щелкнул каблуками и вытянулся по стойке «смирно». Только после этого я поднял на него глаза и ощутил внезапную дурноту, которую можно было бы приписать тяжелой пище, только что мною поглощенной. Однако причина была совершенно в другом. Возглас отвращения застыл у меня на губах. Никогда раньше мне не приходилось видеть человека более отвратительной наружности. Каждый дюйм его грубой красноватой кожи был изрыт оспинами, рябинами, шишками, наростами — всем тем, что лютая болезнь способна оставить на теле. От лба до подбородка его лицо утратило всякое сходство с человеческим. Общаясь с крестьянами, работавшими на землях моего отца, я видел, что оспа способна сделать с человеком. Но то, что она сотворила с Люблинским, вообще не поддавалось описанию.
Воротник его куртки был достаточно высок, чтобы скрыть синевато-багровые оспины и гнойники, которыми была испещрена шея. На левой щеке у Люблинского виднелась широкая, окаймленная кровавым кругом рана.
— Сними шапку в присутствии господина поверенного, — резко приказал Кох. Люблинский повиновался, обнажив лысину, поражавшую исключительным уродством: вся она была столь же щедро усеяна шрамами, наростами, следами от язв, как и лицо. Если бы не рост, телосложение и солдатские умения, единственное место, где он смог бы найти себе пропитание, был бы бродячий цирк. Он взглянул поверх меня на Коха, вынудив того посмотреть ему прямо в глаза. А глаза у Люблинского были большие, черные, пронзительные, полные какой-то особой энергии. Он был бы, несомненно, красив, если бы судьба так жестоко не обошлась с ним. С высокими скулами, орлиным носом, квадратной, четко выраженной челюстью, сильным подбородком в другом, лучшем варианте своей жизни он мог бы стать моделью художника или возлюбленным баронессы.
— Мне убрать тарелки, сударь? — спросил Кох.
— Не беспокойтесь. — Мне не хотелось никак унижать Коха в присутствии этого человека. — Вы помогали в расследовании убийств под непосредственным руководством профессора Канта, не так ли? — спросил я, обращаясь к Люблинскому.
Его взгляд метнулся от меня к Коху, затем снова ко мне, и он открыл рот, чтобы заговорить. Если лицо Люблинского потрясло меня, то голос ужаснул. Казалось, у него во рту сидел вырвавшийся на волю страшный дикий бабуин, животное, которое он почти не способен был укротить. По-видимому, я как-то продемонстрировал замешательство, потому что Люблинский внезапно замолчал, затем заговорил снова, пытаясь произносить каждое слово медленно, дабы избежать непроизвольных носовых и гортанных звуков, из-за которых его речь было практически невозможно понять.
— Профессора какого? — проскулил он. Слова со свистом вырывались из изуродованной ротовой полости. — Я сделал то, что мне сказали. Доклады они хотели. Доклады они получили.
— Вам ведь также заплатили за несколько рисунков, которые вы сделали по поручению профессора Канта.
— А, его! — воскликнул Люблинский. — Он что, профессор?
— А кто же он, по вашему мнению, такой? — спросил я.
Люблинский пожал плечами:
— Мне за то, что я думаю, не платят, сударь. Меня подобные вещи не интересуют. Я дал ему то, что он просил. В мире полно стариков со странными прихотями.
Я заставил себя взглянуть на него и попытался вообразить, что он сейчас думает. Все в Кенигсберге представлялось каким-то порченым, больным, боящимся дневного света. Мне стало даже как-то нехорошо от мысли, что и я вынужден был сделаться частью всего этого. Какой «талант» сумел профессор Кант обнаружить в немыслимом существе, сейчас стоявшем передо мной?
— Расскажите мне о себе, — попросил я и почти сразу пожалел о своей просьбе.
Потребовалось титаническое терпение, чтобы разобраться в его бормотании. Звали его Антон Теодор Люблинский. Родом он был из Данцига. Десть лет назад поступил в легкую пехоту и участвовал в боевых действиях в Польше. В течение трех лет его полк располагался в Кенигсберге, где, как он подчеркнул, ему совсем неплохо жилось до самого последнего времени.
— Вы чем-то недовольны здесь, Люблинский? Почему так резко изменилось ваше мнение по поводу этого города? — спросил я, полагая, что, где бы бедняга ни оказался, он повсюду должен чувствовать себя глубоко несчастным.
— Мне больше нравятся сражения, сударь. — Создавалось впечатление, что сама мысль об участии в военных действиях согревает его сердце, и Люблинский хрипло добавил: — На поле брани с противником сходишься лицом к лицу.
Угольно-черные глаза сверкнули высокомерным огнем, и он отвернулся.
Что же такого этот человек познал в жизни, что заставило его предпочесть воину миру и риск быть каждую минуту убитым спокойному существованию? Я наклонился над столом, изо всей силы ударил по нему кулаком и пристально взглянул Люблинскому в глаза. Резкий запах, исходивший от этого человека, смешивался с ароматами, наполнявшими комнату. Мне пришлось подавить сильнейшую потребность отвернуться от него.
— Я прочитал ваши официальные донесения, Люблинский, — признался я. — По правде говоря, в них очень мало информации. Расскажите мне поподробнее, что вы видели на месте преступления около «Балтийского китобоя». Вы ведь были первым, кто увидел тело, так?
Люблинский отрицательно покачал головой:
— Не совсем, сударь. Я был не один. Со мной был еще одни жандарм. Кроме того, там была еще и женщина…
— Год назад, — прервал я, — вас послали на место преступления. Вы беседовали с женщиной, нашедшей тело. Верно? Я хочу в точности знать, что было тогда сказано.