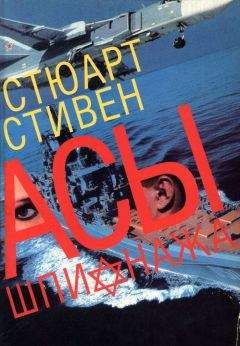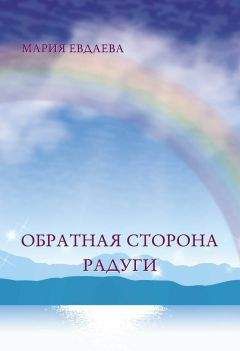Павел Сутин - Апостол, или Памяти Савла
– Ну и что, ты учился у него ремеслу?
– Не учился, – Руфим помотал головой. – Начал учиться, но тут меня братья-газийцы увлекли. Пришли в Ерошолойм братья-газийцы, стали проповеди произносить. Я того наслушался и сказал мастеру, что уйду с ними. Он отпустил. Ну иди, говорит, захочешь – вернешься.
– А долго ты с газийцами бродил?
– Год с ними был. Потом вернулся. Голодно с газийцами, невозможно. Они подаянием живут… Не могу так. Позорно мне просить.
– Отчего ж так долго бродил с ними?
– Газийцы побираются, есть такое… Но учение их верное.
– А теперь почитаешь газийцев?
– Почитаю, адон! Я их учение принял, по сей день живу их учением.
– Есть хочешь? Кормили тебя сегодня?
– Адон капитан видел, как кормили меня сегодня… – тихо сказал Руфим. – Под ребра меня кормили, по лицу кормили. Кровью кашляю – так кормили…
– Вот поговорим, а после еды дадут, – пообещал Севела. – А ну, скажи мне вот что. Какой человек мастер Джусем?
– Добрый человек, – без заминки сказал Руфим.
– А еще какой?
– А не знаю, какой еще. Добрый, и того мне хватит, – сказал мозгляк и неожиданно смело поглядел на Севелу. – Всяких много, и правых много, и твердых много. Вероучителей много, и законоучителей много. А добрых до сей поры мало встречал.
– Так уж и мало?
– Газийцы учат: злоба – что скорлупа. Под скорлупой – добрая суть. И всяк человек добр, надобно только скорлупу пробить. А мастер Джусем – добрый. И вовсе безо всякой скорлупы. Вот и все мои слова, адон.
– А ну, расскажи мне про учение братьев-газийцев. Что тебя-то, безголового, в том учении увлекло?
– Так простота же увлекла, адон! – встрепенулся Руфим. – Понятно же все, адон!
– В чем простота? Обрядов нет? Повелений немного?
– И обрядов нет никаких, адон, и повелений семь всего. А главное-то – понятно, что ты есть, и что есть Предвечный. Где ты, и где он. У кохенов-то как все мудро. Суть божественных положений вовсе теряется, адон капитан!
– Как это так – теряется?
– А за толкованиями теряется!
– А в чем разница между тем, что кохены говорят, и тем, чему братья-газийцы учат?
– Да вы рассудите же, адон! – жарко сказал Руфим. – Ведь сколь многомудро Пятикнижие! В Декалоге еще человек разобраться может, прост Декалог. Но вот Второзаконие-то уже по разуму одним лишь кохенам. А еще по Пятикнижию выходит, что Предвечный непостижим! Вовсе непостижим! И в гневе своем непостижим, и в добром своем. Некогда дал скрижали Предвечный, но после-то сколько писано! Людьми же после писано!.. Сколь ни мудры – а люди!
– А ну, попей еще. Не горячись, попей.
Руфим послушно наклонился к бадье, черпнул ладонями, не столько выпил, сколько на лицо наплескал.
– А у братьев-газийцев разумно все и просто, – он икнул. – У братьев-газийцев так: сколько тебе Предвечный дорог, столько и ты Предвечному мил. И толкования путаные ни к чему. Предвечного любишь – свое тепло ему шлешь. Он то тепло получает и тебе в ответ шлет. Сильнее любишь – больше тепла отдаешь Предвечному. И он это принимает и стократ тебе возвращает. Предвечный человеческим теплом сущ. А кто отверг Предвечного или не шлет ему тепла молитвой и чистой приверженностью – к тому Предвечный равнодушен. И ушел, стало быть, тот человек из-под руки Предвечного, и не будет ему здоровья и радости, и жизни не будет.
– Хороши твои братья-газийцы, – усмехнулся Севела. – Того гляди, у них с Предвечным до торга дойдет. Я вот столько-то тепла Предвечному пошлю, а он мне пусть вот столько-то вернет.
– Ошибка, адон! С Предвечным не выгадывают! – зачастил Руфим. – И еще братья-газийцы верно учат, что человек должен прямо с Предвечным сноситься, но не через кохенов!
– А мастеру Джусему ты рассказывал про учение газийцев?
– А то как же. Он выслушал. Он всех выслушивает.
– И что ответил мастер?
Руфим шмыгнул носом.
– Он меня по щеке погладил. И говорит: а ты представь, что Предвечный тебе и без твоего тепла все свое тепло отдаст. Представь, говорит, дурачина, что Предвечный не сила даже, а одна только доброта. И та доброта сильнее любой силы. Можешь, говорит, такое представить, дурачина ты бродячая? Так он мне ответил.
Севела покосился на мозгляка и с усмешкой спросил:
– А можешь ты такое представить?
– Он сам добрый, и Предвечный у него добр, – выговорил Руфим. – Не могу я такого представить. Я вам так скажу, адон: какой человек сам есть, таким он и Предвечного видит.
– Значит, каков сам человек – таков и его Предвечный. Так?
– А вот то – богодерзкость, адон, – еле слышно сказал мозгляк. – Это что ж получается: сколь людей есть на свете, столько и ликов у Предвечного?
– А вот так и получается, друг мой Руфим, – насмешливо сказал Севела. – Но у мастера твоего получается, что Предвечный добр бесконечно. Пусть ты грязь и смрад, пусть ты гадостен, пусть богодерзок. А Предвечный все же добр. Но ты мне вот что скажи. К чему мастеру Джусему братья-галилеяне? Одна лишь дружба у него с Амуни? Или же он галилеянам содействует в вероучении?
Руфим жалко сморщился.
– Не будет мастеру добра от дружбы с галилеянами.
– Вот как? Почему ты так говоришь?
Руфим замялся.
– Говори. Не то корпусной вернется.
– Мастер в покое жил прежде, – поспешно сказал Руфим. – Посуду делал хорошую, до Десятиградия его посуда славится. Мастер в Тир продавал свою посуду и в Дамаск. Тонкая работа.
– А что же теперь он перестал делать посуду?
– Не в том беда. Мастер учен. Ему отец его много списков оставил. Мастер на иеваним читает, на лацийском. Прежде он как жил? До полудня в гончарне, а после домой идет и читает. И сам пишет… Покойно было.
– А что прежде писал мастер?
– Как мне знать? Я спросил как-то, он ответил: комментарии, мол. Имена еще сказал, я тех имен не запомнил. Слово только запомнил, «комментарии». Он еще сказал: старые письмена-де мертвы и людям безразличны. Но комментариями, говорит, их можно оживить.
– Отчего ж он теперь перестал писать?
– Не перестал. Но теперь одни письма пишет. Много писем. Что ни день, то письмо. И ему шлют. Боюсь я тех писем, что ему шлют.
– Ты читал их?
– Как можно? Да и не прочесть. Я по-арамейски лишь могу… Ему на иеваним пишут.
– Почему боишься этих писем?
– Я потому их, адон, боюсь, что спокойная наша жизнь из-за них закончилась! И сам мастер изменился из-за этих писем, а теперь вот еще и в крепость нас посадили.
– Как приходят письма?
– Три человека привозят. В очередь привозят. Письмо оставляют, ночуют, наутро ответ берут и уезжают.
– А покой, стало быть, кончился?
Руфим стал грызть ноготь на большом пальце.
– Кончился покой в доме мастера, – горестно сказал он. – Как письма те пошли, так мастер заволновался. То мрачен, то смеется.
– Над чем?
– От радости смеется, адон капитан, – сказал Руфим нерадостно. – Спокойствие мой мастер потерял.
– Зелоты в доме бывали?
– Нет! Нет, адон! – Руфим всплеснул руками. – Пинхоры во все времена зелотов сторонились, это твердо знаю! О зелотах мастер говорил плохо. Говорил так: безмозглые убийцы. И еще много плохого про них говорил. Что дом Израиля разоряют, истребляют народ. Он бы зелота на порог не пустил.
– А чему же радуется мастер?
– Да как же мне его понять, адон? – беспомощно сказал мозгляк. – Вы же видите, адон, кто я есть, и кто он. И потом, место-то мое в доме какое? Не того я сословия, чтобы самого мастера Джусема спрашивать.
– Так ведь и мастер твой невысокого сословия, – пренебрежительно сказал Севела. – Не кожевенник, верно. Не водонос… Но гончар – невысокое сословие.
– А вот не скажите! – с обидой возразил парень. – Верно, по цеховому реестру Пинхоры гончары. Но фамилия их состоятельная. Мастер гончарное дело для одного удовольствия содержит. Он в этом деле художником слывет. Работает только на заказ, не партиями, штучно. Он рисует много.
– Рисует? – удивился Севела. – И что же он рисует?
– Орнаменты из растений, узоры рисует. Потом на посуду переносит. Его покойная жена научила.
– Хорошо, Руфим, – Севела встал. – Корпусной тебя больше не тронет. Теперь не врешь, не крутишь. На той неделе выпустят тебя.
– Отчего ж только на той неделе, адон? – жалобно спросил Руфим.
– Я хочу тебя еще порасспросить. Потому побудешь в крепости пока. После выпустят. Ты вот еще что мне скажи. Законный он человек? Говорил ли дурное о романцах когда-нибудь? О Высоком Синедрионе дурное говорил?
Мозгляк еле заметно усмехнулся. Потом тихо сказал:
– Законнее его нет никого. Противоуказного ничего не делал. Людей своих на общественные работы посылал всякий раз, как Синедрион постановит. Я от дома Пинхоров на рытье канав трижды ходил, по месяцу. Законный человек.
– А чего ты усмехнулся? – спросил Севела. – О чем подумал, а?
– Мастер никогда романцев не порицал, – с мелким смешком сказал Руфим. – Но я так думаю, что для него все – как дети. Что романцы, что первосвященниковы люди, что горожане или деревенские – ему все едино. Он среди людей живет… А как будто в пустыне живет. И отец его такой же был, мне мой отец рассказывал. Он сам по себе, мой мастер. Он и Книгу перечитывает без почтения. Очень любит в Книге находить… Как сказать?.. Ну как сказать, адон? Когда в Бытии одно, а в Числах, скажем, уже совсем другое?