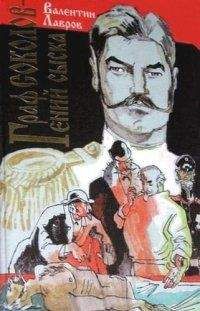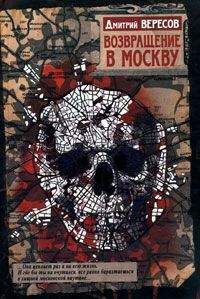Виктор Суворов - Контроль
Спасти Россию – не допустить к власти Тухачевского – Сталин мог, только опираясь на Ежова. В борьбе против Тухачевского Сталин вынужден был дать Ежову почти абсолютную власть. И закружилась голова у товарища Ежова. И самого потянуло на власть… Он мог ее взять. И что бы тогда ждало Россию?
Понимала Настя, что повезло России. Понимала, что власть Сталина – не худший вариант. Без этой власти миллионы шакалов, выброшенных на гребень революцией, растерзают страну.
Понимала Жар-птица – бывает хуже.
Занимала она скромный незаметный пост и на этом посту, как тысячи других, делала все, что в человеческих силах, и сверх того, чтобы худшего не допустить.
Оптимисты думают, что жизнь – это борьба добра и зла. Ей жизнь не представлялась в столь розовом свете. Она знала, что жизнь – это борьба зла с еще большим злом.
10Не пропадает мираж на горизонте. Стоит «Главспецремстрой», явный, как картиночка. И решила: идти до самого миража. И умереть. В движении.
Идет. Пахнет железнодорожный разъезд углем. Пахнут шпалы запахом своим особым. Их какой-то чертовщиной пропитывают, чтоб не гнили. Издалека Настя запахи железнодорожные чувствует. Хорошо, но от острого запаха голову ломит.
Идет. Идет Настя и понимает, что не мираж это вовсе. Это поезд. Это «Главспецремстрой». И не какой-либо, а именно тот. «Главспецремстрой-12». Его по очертаниям издалека видно. Дураки думают, что однотипные вагоны все одинаковые. Но нет. Если присмотреться, у каждого своя индивидуальность.
Спотыкается Настя. На колени падает. А ведь решила так ноги переставлять, чтоб ботинок за ботинок не цеплялся. Чтоб не цеплялся. А шажки маленькие совсем. Нет бы пошире шаги. Не получается.
Бредет она и понимает, что мог старший майор государственной безопасности Бочаров у железнодорожного разъезда засаду поставить. Мог. Вот бредет она, уже не прячась, нет сил больше прятаться, вот бредет она из последних сил, спотыкаясь, а они сейчас и выпрыгнут. И захватят ее у самого поезда. Бредет она, не прячется: может, из поезда заметят? Не замечают. А бочаровские тигры в засаде ее, конечно, видят и выскочат… В них и стрельнуть ей будет нечем. Был «Люгер» на боку и семь патронов в нем. Но выбросила Настя «Люгер». Нечем ей теперь отстреливаться. А был бы «Люгер», она бы сейчас в воздух шарахнула, в поезде услышали бы и спасли…
Солнце высоко. Полдень. Говорил Холованов: от полночи до полудня. До чего судьба злая: нет бы Насте выйти сюда в прошлую полночь. За двенадцать часов от леса до разъезда добрела бы. А так… Уйдет поезд. И вернется через неделю. Не доживет Настя неделю.
Идет она, руками машет. Идет и кричит. «Не уезжайте!» – кричит. Кричит и смеется. Кричит и понимает, что не кричится. Смешно: понимает, что губы спеклись и потрескались. Что и не раскрываются губы ее вовсе. Это ей только кажется, что кричит, а в горле пересохшем крик не рождается. Не видит ее никто. Идет Настя, как кавказский пленник. Тот по полю к своим бежал и кричал: «Братцы! Братцы!» Но те не слышали, а из лесу на скакунах выскочили краснобородые… Так и Настя к своим идет. Правда, пока не выскочили из леса на скакунах, но поезд в любую минуту уйти может. В любую. Идет и плачет. Жалко. Если бы на час опоздала, то не так жалко. Жалко, когда в минуты не уложилась.
Вконец Жар-птица отощала. Как былиночка. Может, и смотрел кто в ее сторону, но сквозь нее только поле ковыльное увидел. И часовой у поезда. И часовой не видит ее. Это ночью часовой бдительным бывает. А тут встал у вагона, развернулся спиной на осеннее солнышко, да и пригрелся. Кто со стороны поля подойти может? Никто не может.
Идет Настя, ступни ног горят огнем. Так горят, вроде по угольям идет. Протянула руку и взяла ручку вагона. Теплая ручка, на солнышке разогрелась. Правое колено на ступеньку. И всем телом вперед. Теперь левую ногу подтянуть и на ступеньку коленями. Теперь правой ногой надо встать на ступеньку. Теперь левой. Круги оранжевые в глазах. Подниматься надо не ногами, а руками за ручки хвататься и тянуться. Правую ногу на вторую ступеньку. Теперь всем телом вперед. Теперь левую ногу поднять на вторую ступень. Не поднимается. Обидно. Дрожь по поезду. Дернет сейчас – и свалится она в полынь придорожную, и не увидит ее никто. И уйдет поезд без нее, и не скажет никто товарищу Сталину, что она почти дошла. Что не дошла она всего одной ступеньки. Не расскажет никто товарищу Сталину, что папку с документами она под расстрельным шкафом спрятала. Не расскажет ему никто, что «Контроль-блок» в Волге лежит, стропой привязан к килю разбитой деревянной баржи. Ладно. Ногу вверх. Так. Встала нога на ступень, и прожгло ступню. Теперь правую ногу на третью ступень. И дверь пред нею распахнута.
Только тут ее часовой заметил:
– Кудыть, холера! Тудыть твою! Слязай! Стрялить буду!
И затвором – клац!
Но Настя и левой ногой уже в тамбуре. Руками обеими за стенки. Шаг вперед. Еще шаг. Коридор. Шатается коридор. Плывет. В том конце – Холованов. И Сей Сеич. Улыбнулась им Жар-птица, прижалась спиной к стене.
И уснула.
11Старший майор государственной безопасности Бочаров опустил голову на руки. Сон караулил за углом. И как только его голова коснулась теплой руки, сон вырвался из-за угла столичным экспрессом и раздавил, и разорвал, и разметал по свету клочки того, что мгновение назад называлось старшим майором государственной безопасности.
За семь суток старший майор государственной безопасности спал в общей сложности одиннадцать часов и тридцать четыре минуты.
Пропала девка. Пропала. Весь левый берег Волги обыскали от Ярославля до Астрахани. Все мосты под контролем, все пристани, все лодки. Не могла она на правый берег уйти. Не могла.
Значит, утонула. Значит, погибла.
Игра продолжается. Но старшему майору государственной безопасности теперь надо спать. Ему надо два часа сна. Сейчас. Опустил Бочаров голову на руки и уснул тем сном, который вырывает нас на время из жизни, который бьет обухом в загривок, вышибая все воспоминания и размышления, от которого дуреешь, как от настоя гриба-самопляса, тем сном, из которого нужно вырваться, как из зубастой крокодильей пасти, очнувшись от которого, спрашиваешь: кто я?
12Скользит Настя спиною по стенке. Но этого уже не сознает, не помнит. Бежит к ней Холованов. Бежит к ней Сей Сеич. Слышит она их шаги, и сны видит. Обрушились на нее сны, которые не досмотрела в пути, на хлебной барже, на расстрельном пункте – НКВД, в монастыре, в парашютном клубе, в железном шкафу, в огромной квартире. Навалились сны тысячетонным обвалом, и она видела их все разом. Она видела сны, бесконечные и мимолетные, радостные и горестные, страшные и веселые. Ей снились цветы и волны, ей снился товарищ Сталин и товарищ Ежов. Ей снился майор Терентий Пересыпкин, который в Наркомате связи сцепился в жестокой словесной перепалке с всемогущим Наркомом связи бывшим главой ГУЛАГа и замом Наркома НКВД комиссаром государственной безопасности первого ранга Матвеем Берманом. Ей снился первый урок в первом классе и первый расстрел, ей снились рыцари и замки, мечи, сабли и револьверы. Ей снился раненый ротмистр Лейб-гвардии Кирасирского полка и прекрасный пистолет «Лахти», который стал легок и руке удобен. Ей снилась божественная мелодия «Амурских волн», снились прекрасные дамы в белых платьях с красавцами офицерами Кавалергардского полка.
Холованов только десять метров коридором пробежал, а ей уже и поля рисовые привиделись, и люди в полях, и леса кедровые, и пустынный остров, и глубокие воды стеклянно-зеленые. И в водах она тонула.
Сей Сеич ворот ее распахнул да быстро обшарил: нет ли чего с собою важного. Но нет с нею ничего. Вообще ничего. Комбинезон изорванный, ботинки сбитые на изорванных шнурках. На широком запыленном ремне – кобура и пистолет «Люгер» с семью патронами.
Подхватил ее Холованов на руки. Открыла она глаза. И закрыла. Вот теперь все сны отошли разом и остался один глубокий и ясный сон: она тонет. Она – в глубине, в прозрачной воде. Она уже утонула. Ее больше нет. А тело ее скользит сквозь толщу воды в бездонную глубину. И зеленая вода превратилась в синюю, синяя – в черную. А она медленно уходит вниз, вниз, вниз.
Глубже.
Глубже.
Глубже.
Глава 19
– Все ясно, – говорит Холованов. – Давайте, Сей Сеич, меры принимать. Снимайте ботинки с нее. – Сам телефон сорвал и машинисту: – Гони! Куда гнать? В Москву гнать, на станцию «Кремлевскую».
Дернуло поезд ремонтный и повлекло.
И повлекло.
До чего быстро скорость набирает. Холованов правительственную по маршруту: графики движения ломать, поезду «Главспецремстрой-12» – «синюю волну».
Пошли столбы телеграфные за окном мелькать. Да все чаще. Сей Сеич Жар-птицу на руках – в купе свободное. Уснула она сном каким-то подозрительным. Исчерпала Жар-птица силы до самого дна. Душевные и физические. Исчерпала, и нет больше воли жить. Уснула, ничего не сказав, но казалось, что засыпает, прощаясь. Выражение на лице: ничего мне больше не надо. Дошла до вас и все. И конец. И отстаньте. Сон ее – угасающий. Так котенок умирает – кажется, просто засыпает, но засыпает не просто, а навсегда. Того и гляди, и Жар-птица не проснется. Никогда. Этого Сей Сеич не допустит. Девку до Сталина живую довезти надо и сдать лично в руки. Легко Холованову говорить: ботинки снимай. Как снимать? Шнурки все изорваны, все узелочками завязаны. Не поймешь, где концы. Достал Сей Сеич ножичек заморский. Пузастенький такой, красные бока с белым крестиком. Называется: швейцарский офицерский. Лучший в мире. Один шпион знакомый в подарок привез. Там в Швейцарии ничего не делают, кроме часов и ножичков. Да еще деньги считают. Но уж если считают, то так, чтоб себе всегда доход был. Сверхприбыль. Если уж делают часы, так чтоб вовек не останавливались. Если ножичек мастерят, так чтоб уж лезвия не ломались. В ножичке том пятьдесят восемь инструментов: и штопор, и вилочка, и шильце, и напильничек, и ножнички, и еще множество всяких удивительных штучек, которым, не прочитав инструкцию, применения не придумать.