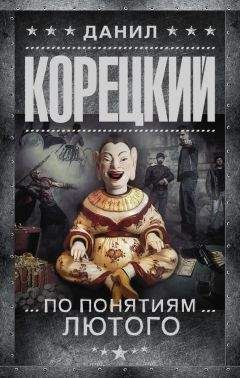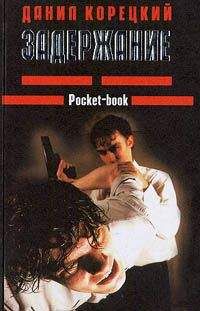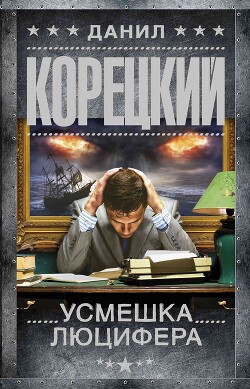По понятиям Лютого - Корецкий Данил Аркадьевич
В дерматиновой хозяйственной сумке Султан принес обед из вокзального ресторана. Кастрюлька с борщом, шашлык и салат в кульках. Чекушка водки.
– Разве это шашлык? Это чихнул тот, кто настоящий шашлык поел! – ворчит он, расставляя все на подносе. У него вытянутое нервное лицо, орлиный нос, усики-стрелочки над узкими губами, черные и влажные, как маслины, глаза. – Да я б за такие деньги, как они дерут, три поляны накрыл, и еще бы осталось!
Султана назначили в пристяжь к Смотрящему – как по статусу положено. Он даже собирался поселиться здесь же, в выкупленном общиной доме на Нахаловке, куда переехал Студент. Братва привыкла, что в этом районе Смотрящий живет, только подальше от центра, чем Мерин жил, ближе к железной дороге. Круглосуточная охрана, принести чего, сбегать куда, – короче, как адъютант у генерала. Студент наотрез отказался: ему только Султана здесь не хватало.
– На благо воровское нести почти перестали, – пожаловался Султан, присаживаясь на краешек табурета. – Община дичает, от рук отбивается. В Котеновке кто-то магазин поднял на семьсот рублей, а это Кузьмы территория. Кузьма думает на Батю, тот открещивается, рубаху на себе рвет. Скоро «перья» в дело пойдут. Надо как-то разруливать, пока не поздно, что ли…
Студент встал перед ним, откупорил чекушку.
– Это ты меня учишь, чего делать надо, братское сердце? – спросил он и отпил из горлышка. – Хочешь на мое место стать? Давай становись!
Фигура Студента нависает сверху, закрывает лампочку, лицо в тени. Голос шутейный, почти веселый. Но Султану вдруг мерещится, что на месте глаз горят две красные точки, а из-за плеч вырастает, тянется что-то, будто черные крылья, и от этого в комнате сразу становится темнее.
– Нет… Я просто обсказываю про жизнь воровскую… как положено, – бормочет он и встает.
Лампочка выглянула из-за головы Студента, тень ушла, он стоит перед ним, как и был: рожа гладкая, розовая, глаза серые, никаких крыльев.
– Обсказал, братское сердце, – и свободен!
Улыбаясь, Студент идет на него с чекушкой в руке, только кажется, что это «волына». Султан пятится в прихожую, вываливается на улицу, забыв про сумку. Хлопает дверь, щелкает замок.
– Мудила, – сказал Студент, стирая с лица улыбку, и вернулся в комнату.
По телевизору шла передача про загнивающий капитализм. Развинченные парни с высокими прическами вихляют бедрами, размалеванные маскировочной краской солдаты, в забранных сеткой касках, позируют на фоне убитых корейцев, боксер с разбитой в фарш мордой падает на ринг, складывается, как башня, и кровь облачком взлетает над ним. Комментатор все это время бодро втирал какую-то шнягу, что им, утыркам американским, типа, ничего не остается, как загнивать, поскольку это еще Маркс предсказал, и пока они это не вкурят, будут мучиться и страдать.
Дом стоял под косогором, может, поэтому антенна ловила плохо. Экран снежил, звук хрипел. Дом был кирпичный, приличней, чем у Мерина, да и просторней. Но все равно говенный. Центрального отопления нет, Султан нашел мужичка, тот по утрам приходит, растапливает печь. Сортир на улице. Целые дни грохочут поезда – железная дорога рядом. Глушь. Убожество. Когда становилось невмоготу, Студент оставлял на хозяйстве Султана, седлал «Москвича», и ехал в свою квартиру, где все осталось по-прежнему – поленовские акварели, шелковые обои, ванна с горячей водой, привычный вид из окна, привычный городской уют. Проведет красиво вечерок с какой-нибудь чувихой, переночует и возвращается обратно в свою штаб-квартиру, хрен бы ее побрал!
Какого, спрашивается, рожна он сюда вообще переезжал?
Потому, что фарфоровый болванчик так велел?
Сейчас китаец стоит на окне, за которым сгущаются серые деревенские сумерки, виднеется забор, а за ним, едва различимый – край озера в камышах. Он замолчал с самого первого дня, как здесь. Ни разу не пошевелил своей фарфоровой башкой, чтобы хоть как-то ободрить, поддержать, вроде как поощрить Студента за послушание. Или подсказать: а что дальше-то?
Дела не наладились. Круглосуточной охраны, как у Мерина, у него не было: никто, даже Жучок не выразил желания, а в обязаловку запрягать воров – против правил. Один Султан с ним кентуется, и то по кавказской привычке быть поближе к «бугру». Буровой, Космонавт, Лесопилка, Нехай – все авторитетные ростовские воры сторонились Студента как чумы, а то просто будто не замечали, не слышали. Ведь пытался, в самом деле пытался порешать вопросы – с тем же рынком, который после смерти Матроса стал ничейной территорией и яблоком раздора между воровскими кодлами, которые до этого спокойно уживались вместе… Звал, требовал, орал, грозил: надо собраться, обсудить, разграничить эти, как их, сферы влияния. Никто из блатарей даже жопу от стула не оторвал.
Был фартовый вор, стал картонный Смотрящий, сказал себе Студент. Вот такие дела.
– …В Бостоне, Нью-Йорке и Чикаго, во всех крупных городах США давно идет скрытая жестокая война, жертвы которой исчисляются тысячами жизней. Название, которое носит эта война, коробит непривычный слух… «Рэкет»! Словно звериный рык в ночи. Словно треск ломающейся берцовой кости. Страшное слово. Оно произошло от итальянского «рикатто», что означает «шантаж».
Студент отвлекся от своих мыслей и уставился в телевизор. Он вдруг обратил внимание на телекомментатора в темных роговых очках, сидящего в студии с глобусом на заднике. В его грозном обличающем голосе стали проступать совершенно неуместные для советского телеведущего вальяжные интонации. Он по-блатному растягивал одни слова, жуя и комкая другие, а английское «рэкет» произнес с неожиданным форсом, долго и с явным удовольствием катая во рту букву «р».
«Может, пьяный?» – оторопело подумал Студент.
На экране тем временем пошли кадры из американских фильмов, где модно прикинутые молодчики с сигарами во рту и автоматами в руках вламывались в мрачный подвал, уставленный ящиками и коробками.
– …Суть явления проста до примитивности. Бандиты взимают дань у торговцев, предпринимателей, разного рода дельцов и барышников под предлогом обеспечения защиты от других бандитов. К примеру, гангстер Джон заявляется к предпринимателю Бобу…
В подвале за столом с настольной лампой сидит унылый жирный тип в круглых очочках. Молодчики окружают его, один с ходу дает ему в глаз, тип кулем опрокидывается на пол.
– Слушай сюда, Боб, мудила ты плюшевый, – басит молодчик по-русски, присаживаясь рядом на корточки. – С этого дня ты каждый месяц отстегиваешь мне две тысячи долларов и продолжаешь дальше, так сказать, спокойно пить кровь трудового народа. Тебя никто не тронет во всем нашем Чикаго, ни одна сука, ни одна б…дь. А если тронет, я им печенки вырежу и сожрать заставлю. Втыкаешь, Боб? Пока ты платишь мне деньги, я тебя, мудилу плюшевого, защищаю. Ты под моей, как говорят у нас на загнивающем Западе, протекцией…
Глубокая затяжка, выдыхаемый дым сигары окутывает испуганное лицо лежащего на полу Боба.
У Студента, наблюдающего этот дикий фарс на Первом всесоюзном канале (через десять минут начнется «Время»), волосы зашевелились.
– …Но если вдруг ты решишь, что я шучу, – продолжает Джон, щурясь от дыма, – или что две тысячи долларов – это много, или просто в нужный день забудешь деньги дома на холодильнике, я утворю с тобой такое, что ты, мудила плюшевый, остаток своих дней будешь срать кирпичами и ссать кипятком.
– Но ведь я… я… А я пожалуюсь в полицию! – лепечет Боб.
– Не-а! Не пожалуешься! – уверенно и даже жизнерадостно говорит Джон, поворачивается лицом к камере, залихватски подмигивает. – Ни в какую полицию ты не пойдешь, мудила ты плюшевый, потому что налогов не платишь, а значит – занимаешься самой что ни на есть незаконной предпринимательской деятельностью!!! Ну?! – Тон его резко меняется, он орет, брызжа слюной и, кажется, едва владея собой. – Будешь платить или нет?!
Гангстер Джон легким движением пальца выбивает линзу из оправы очков Боба и тычет туда горящую сигару. Слышится шипение. Потом крик: