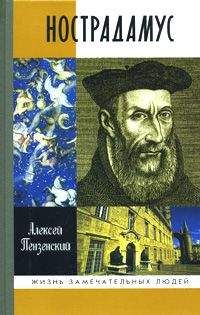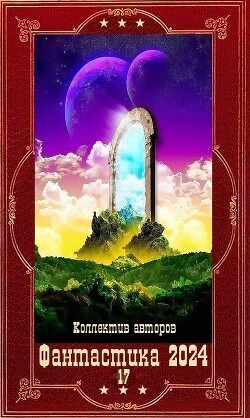Шаги во тьме - Пензенский Александр Михайлович
– Поднимитесь, братья! – уверенным басом воскликнул алый – будто и не он только что извлекал из себя гортанные языческие заклинания.
Фигуры торопливо повскакивали на ноги.
– Готовьте чаши!
Тут выяснилось, что под самыми окнами, в тени драпировок, были скрыты двенадцать одинаковых кубков желтого металла – то ли бронзовые, то ли вовсе золотые. Предводитель запустил свободную руку под плащ, тоже достал чашу, почти такую же, как у остальных, но украшенную по ободу разноцветными каменьями, снова повернулся к алтарю. Сверкнуло в свечном свете кривое лезвие и аккуратно, почти нежно коснулось белого тела, медленно скользнуло от ложбинки у основания шеи до пупка, оставляя темно-красный след. Позади кто-то охнул. Жрец резко обернулся на звук, замер, высматривая что-то во вновь обретшем безмолвие силуэте.
– Брат Аристарх, – указал он своим бокалом на одного из плащей, – подойди.
Фигура помедлила, но все же двинулась к центру залы.
– Дай мне свой кубок. Ты будешь первым сегодня.
Алый жрец опять повернулся к неподвижной жертве, вновь коснулся кинжалом и подставил чашу под ожившую струйку. Набрав чуть больше половины, протянул стоящему рядом брату Аристарху:
– Пей!
Человек в черном плаще помедлил, затем нерешительно поднес посудину к капюшону – и вдруг фыркнул, разрушая всю атмосферу таинственности и демонизма.
– Бордо? Вы серьезно? – выдала фигура голосом Юлия Осиповича Штайера, да еще и присовокупила слово, которое редактор вряд ли согласился бы пустить в номер даже за подписью именитого репортера. – Боги египетские, два дня впустую убил на ваши игрища. Ну-ка… – Вырвал из рук опешившего магистра кинжал, стащил капюшон и, близоруко сощурившись, поднес к глазам. – Ага, понятно – ярмарочные фокусы. – Штайер нажал на камень на гарде, и из кончика лезвия брызнула темная струйка. – Тьфу, балаган! А апостолы верят, что вы кровь в вино обращаете?
– Господа! – довершая разоблачение и лишая присутствующих братских уз, проревел алый. – Да это не Аристарх! Хватайте его!
– Спокойно! – выкрикнул в ответ газетчик, отскочив к двери и выхватив из-под полы короткоствольный револьвер. – Патронов в барабане шесть, кто желает быть добровольцем?
Никто не пожелал. Только голая девица наконец открыла глаза, села на своем неудобном ложе и громко заявила, нисколько не смущаясь своего пикантного вида:
– Господа хорошие, за такие страсти потребуется доплатить. Мало что лежу тут на ледяной каменюке, не застудиться бы, так еще и пальба намечается. Такого уговора не было!
Штайер хмыкнул, отвесил шутовской поклон:
– Мадемуазель, признаю ваше требование полностью обоснованным, но, коль скоро я откланиваюсь, принять участие в установлении справедливости не смогу. Адье, господа академики. Рекомендую вернуться к вашим шалостям и забыть меня, как предрассветный сон. Ах да, освободите брата Аристарха, пока не замерз, бедолага. Он в сторожке. – И Юлий Осипович выскользнул за дверь, оставив внутри немую сцену.
23 декабря 1912 года. Воскресенье
– Ожидайте! – рявкнул седой полицейский и оставил Коваля напротив закрытой двери с золотой табличкой «К. П. Маршалъ».
Трактирщик проводил взглядом обтянутую казенным сукном спину, сел на один из стоящих вдоль стены стульев рядом с каким-то дремавшим господином – из-под надвинутой на глаза шляпы торчали только светлые бакенбарды да кончик длинного серого носа – и изготовился «ожидать», пока хозяин кабинета с такой важной фамилией освободится. Разомлев с мороза, Коваль тоже начал было уже клевать носом, когда дверь наконец открылась, и оттуда спиной вперед вышел какой-то дядька с тощей, будто хвостик у редьки, бородой, мнущий в руках кроличий треух и блеющий внутрь комнаты:
– Вы уж простите, господин полицейский. Кто ж знал, что он так загуляет. Я же ведь всем сердцем испужался, что это Архипку вы из речки выловили. Простите великодушно. Я уж ведь слова подбирал, как женке его сообщать об том стану, а оно вона как. Спасибо, что сыскали его.
Следом из кабинета показался высокий рыжебородый барин, видать, тот самый Маршал. Он решительно сжал блеющему локоть и отрезал:
– Ну, довольно, господин Синицын. Ступайте, забирайте своего компаньона из холодной и постарайтесь уж без приключений добраться до вокзала. Вы ко мне?
Коваль поднялся, оглянулся на спящего, но рядом, оказывается, уже никого не было – видно, не дождался длинноносый. Трактирщик кивнул полицейскому, и тот распахнул дверь пошире:
– Прошу!
Маршал отодвинул с прохода Синицына, второй рукой подтверждая свое устное приглашение.
Затворив дверь, хозяин кабинета указал на стул для посетителей, сам уселся через стол напротив, назвался Константином Павловичем.
– Коваль. Коваленко Мирон Силыч. Чайной заведую на Извозчичьей. Околотошный наш сказал, что вы тут об мужиках пропавших любопытствуете.
Маршал достал из пиджачного кармана записную книжку, карандашик и устало спросил:
– Кто пропал у вас, Мирон Силыч?
Коваль кашлянул в кулак, вытер черные усы и выцедил:
– Не то что б у меня. Но посетитель один давно не объявлялся. Василий Хабанов. Из «лихачей».
Константин Павлович записал имя.
– И почему вы решили, что он исчез?
– А чего ж тут решать? Раньше каждый день захаживал, а теперь уж почитай неделю глаз не кажет. Денег он мне не должен, домой вроде не собирался. Вот я и подумал, что он это.
– Он?..
Коваль раздраженно дернул уголком рта.
– Ну, тот обрубок, что давеча из Обводного выловили.
– А может, запил ваш Васька?
Трактирщик поднялся, нахлобучил картуз.
– Вы, ваше благородие, ежели людям не верите, то и не поднимали бы смуту. Околотошный давеча говорил, что обо всех пропавших надо сообщать, а вы будто надсмехаетесь надо мной. Мы, конечно, люди неученые, но соображение свое имеем, чай, не блаженные. Говорю, что сгинул Васька, а вы тут комедь устроили. Он из «лихачей», они народ непьющий и работящий. У него упряжь серебряная и коней пара орловских, холеных. А вы – «запил»! Убили его, и я вам хоть на кресте могу присягнуть, что убивца евойного знаю!
Маршал тоже поднялся, усадил беспокойного гостя.
– Вы извините меня, Мирон Силыч. Просто уж который день я тут истории выслушиваю. Вот, прямо перед вами был один рязанский коммерсант. Привезли с компаньоном мед из Рязани, продали, и товарищ его тоже пропал. А вчера отыскался у нас в холодной, куда его в беспамятстве из дома с веселыми девицами доставили после облавы. Без денег, без паспорта. Но вполне себе живой и очень довольный жизнью. Чаю хотите? Папиросу?
Коваль снова снял головной убор, протянул руку к портсигару:
– Чаем и сами богаты, а за табачок спасибо, не откажусь.
Мужчины закурили, и Константин Павлович снова раскрыл свой блокнот:
– Так почему вы полагаете, что вашего знакомого убили?
Мирон Силыч в три затяжки прикончил папиросу, взял следующую.
– Спор у него был с одним голодранцем. Францем Ягелло. Но все его Лебедем кличут. Черт знает почему. Из-за бабы они стыкнулись. Вроде как жена Лебедя с Васькой якшалась. Люди даже гутарили, будто дочь от него прижила. Так вот, неделю назад подрались они у меня в чайной. Сильно подрались. Лебедь Ваську душить кинулся, да тот так Лебедя разукрасил, не хужее иконописца, а к тому еще и повозил мордою по мостовой. Потом Лебедь заходил и побожился мне, что убьет обидчика. Так и сказал – зарублю, потому как тесно нам тут обоим. И с того дня я Ваську не видал. А потом в газетах пропечатали, что мужика изрубленного из воды достали.
Константин Павлович поднял голову от записей:
– А Лебедя вы после того случая видели?
Коваль покачал седой шевелюрой:
– Нет, и его не видал. Но он-то мне как раз три рубля должен. А на торбах много не заработаешь – он торбы шьет да извозчикам продает. Раньше лавку скобяную держал, да пропил все. Грошей нет – вот и носа не кажет.
– Что шьет? – приподнялся над столом Маршал. – Торбы?