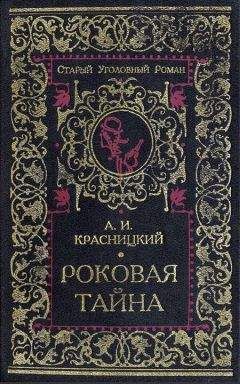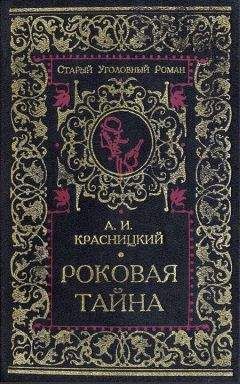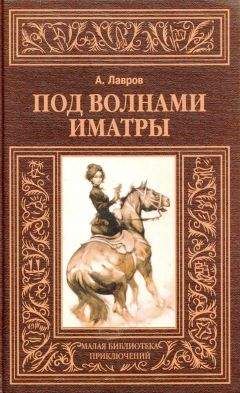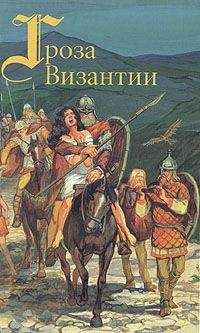Майкл Грегорио - Критика криминального разума
Свет, падавший с обеих сторон, резко выделял очертания человеческой головы.
Я сглотнул и с трудом выговорил:
— Голову… сударь.
— Когда-то она была головой Яна Коннена, первой жертвы убийцы. А теперь я хотел бы, чтобы вы описали то, что видите перед собой, и со всей возможной точностью. Ну, давайте, давайте, Стиффениис! — поторапливал он меня. — Голову?
— Человеческую голову, — добавил я, — которая принадлежит… точнее, принадлежала мужчине примерно пятидесяти лет. Несмотря на искажающий эффект стеклянного сосуда, черты лица правильные и…
Я замолчал, не зная, что еще сказать.
— Подробно опишите то, что вы видите, — настаивал Кант. — Большего я от вас не требую. Начните с макушки и не спеша следуйте вниз.
Я попытался отбросить отупляющее чувство умственной слабости, овладевшее мной.
— Волосы тронуты сединой. Очень редкие на макушке — там почти лысина — и довольно длинные у ушей.
— Волосы покрывают уши, — поправил меня Кант.
— Да, покрывают уши. Лоб…
Я снова запнулся. Что, во имя всемогущего Бога, я должен был сказать?
— Не останавливайтесь! Продолжайте! — нетерпеливо давил на меня Кант.
— …лоб высокий и без морщин.
— А вертикальное углубление в том месте, где сходятся брови? Оно было там при его жизни? Или появилось в момент смерти?
Я сделал шаг вперед и взглянул пристальнее.
— Установить невозможно, сударь, — пробормотал я.
— Воспользуйтесь же интуицией!
— Производит впечатление морщины, появившейся от удивления, — предположил я, внимательнее осмотрев бороздку.
— Разве подобная морщина не должна была разгладиться после смерти?
— Но она не разгладилась, — ответил я.
— Это последнее выражение его лица. Оно возникло в момент смерти. Мышцы лица застыли, сохранив данное выражение. Перед нами хорошо известный феномен. Любой солдат, побывавший на поле брани, сотню раз видел его. Тем не менее оно имеет определенное значение, — добавил Кант. — Теперь что вы можете сказать относительно глаз?
Я взглянул в невидящие глаза в сосуде. Если у человека есть душа как утверждали древние, ее свет виден в глазах. Если тело населяет дух жизни, он проявляет себя через физические окна глаз. Больше всего в отрезанной голове Яна Коннена меня угнетало ощущение того, что он смотрит на нас столь же пристально, как и мы на него.
— Глаза жертвы закатились кверху, обнажив белки, — произнес я с трудом.
— Вы можете дать какое-либо объяснение?
Я был растерян.
— Литературы по таким вопросам не существует, сударь. Я… Тексты по анатомии, конечно, имеются, но подобные случаи в них не рассматриваются. По крайней мере не случаи насильственной смерти.
— Хорошо, Стиффениис. Видите, на какой зыбкой почве мы находимся? У нас нет надежного руководства. Мы должны воспользоваться данными собственного зрения, довериться сделанным нами же наблюдениям и попытаться прийти к тем логическим выводам, которые они нам подсказывают. В этом и будет заключаться наш метод.
— Возможно, удар был нанесен сверху? — предположил я. — В момент смерти он смотрел вверх.
Кант издал одобрительный возглас.
— Удар был нанесен сверху или сзади? Пока мы не можем сказать наверняка, но не допустим, чтобы нас отвлекал упомянутый вопрос. Ну а теперь взгляните на нос, Стиффениис! Что вы можете заключить, глядя на него? — провозгласил он, однако не стал дожидаться ответа. — Что он длинен, тонок и не отмечен ничем выдающимся? Значит, переходим ко рту. Попробуйте описать его.
— Он открыт, — неуверенно начал я.
— Широко открыт?
— Не очень, — ответил я.
— Вы бы заключили, что он кричал в момент смерти?
В выражении лица самого Канта сквозило нечто отталкивающее, отчего я невольно содрогнулся. На какое-то мгновение у меня возникло головокружение, и мне показалось, что я сейчас потеряю сознание.
— Кричал, сударь? — словно эхо повторил я.
— Приоткрытый рот свидетельствует о том, что он кричал в момент, когда его настигла смерть, не так ли?
Я сделал над собой усилие и взглянул на голову более пристально.
— Нет, сударь, я бы так не сказал. Напротив, я бы заключил, что он не кричал.
— И что в таком случае он делал? Какой звук исторгли его уста?
— Возглас удивления? Вздох?
— А не возникла бы у вас мысль, что имело место нечто в высшей степени исключительное и страшное, что и вызвало подобное выражение лица? — продолжал Кант.
— Нет, сударь.
— И я соглашусь с вами. А теперь, Стиффениис, перейдем к причине смерти. Можете вы высказать какое-либо предположение относительно того, что послужило непосредственной причиной смерти?
— На самом лице нет никаких обезображивающих ран, — неуверенно произнес я. — А на теле находили какие-либо следы ударов?
— Тело нас не интересует. Голова, только голова должна нам все рассказать. Поверните сосуд, сержант.
Лампы отбрасывали болезненный желтушный свет на голову, лениво покачивавшуюся в мутной жидкости.
— Вот, посмотрите, Стиффениис. Здесь, в самом низу черепа. Ни малейших признаков сопротивления. Орудие преступления вошло, словно горячий нож в сало. Но это был не нож…
С вышеприведенных слов я и начал свое повествование. В то время я намеревался воздать хвалу невероятной многосторонности гения Иммануила Канта и надеялся отразить также и собственный скромный вклад в раскрытие той тайны, что держала в мрачных тисках весь Кенигсберг. Процитированные мною слова знаменовали первый ясный знак на уже тщательно проторенном для меня пути, который вел в лабиринт нравственного распада, коварства и порока.
— Видите? — Кант наклонился поближе и указал пальцем. — Вот место роковой раны. Смерть наступила быстро и внезапно. Не было никакого сильного удара, ведь признаки серьезного повреждения тканей отсутствуют. Нечто заточенное и с острым концом вошло в горло Коннена, и он умер, стоя на коленях, так и не поняв, что произошло. Эта едва заметная отметина — единственное свидетельство нападения.
Он помолчал немного, словно для того, чтобы придать еще большую значимость тому, что собирался сказать.
— Если я вас правильно понял, среди множества различных инструментов, которыми, по его словам, пользовался Ульрих Тотц для совершения преступлений, нет никаких упоминаний об орудии, которое могло бы оставить подобные следы. — Он резко перевел на меня свой пронзительный взгляд, и я ощутил, как меня охватывает мучительная дурнота, словно я сам только что получил страшный удар в голову. — Кох, поставьте сюда какой-нибудь другой сосуд. Берите любой. — Голос Канта дрожал от волнения, когда он взял ближайший светильник и поднес его к следующей отрезанной голове. — Тот же след мы находим и здесь, — сказал он, постукивая пальцем по стеклу. — Теперь вы видите?
Задняя часть черепа Паулы Анны Бруннер была обрита, длинные рыжие волосы остались только на макушке и по бокам. С моей точки зрения — точки зрения еще довольно молодого человека, — было что-то отвратительное в подобном надругательстве. Обнаженность женского черепа каким-то образом невольно наводила на мысль о тайном насилии, которое и стало причиной ее смерти.
— Подобная отметина имеется и на шее Тифферха, — заключил Кант без дальнейших комментариев, а потом со вздохом добавил: — Если бы вы вчера остались немного дольше и проследили за работой Вигилантиуса, то сразу поняли бы, что Морика убил совсем не тот человек, которого мы все здесь ищем. Хозяин гостиницы — не тот убийца, за которым мы охотимся.
— Это все работа Вигилантиуса? — спросил я шепотом.
Мне показалось, что в тусклом свете я разглядел на возбужденном лице Канта выражение удовлетворения.
— Доктор — настоящие crume de la crème[17] европейского сообщества анатомов! — с гордостью подтвердил он мою догадку, так, словно сам лично проделал отвратительную работу.
У меня перед глазами проскользнула вкрадчивая улыбка некроманта. Теперь она приобрела новый и значительно более зловещий смысл. «Возможно, вы и закончили здесь свои дела, сударь, — сказал он презрительно прошлой ночью. — Но мне нужно кое-что еще завершить».
Я представил, как Вигилантиус извлекает инструменты из-под широкой мантии. А кстати, какие именно? Острые ножи, медицинскую пилу, заостренные скальпели… Затем склоняется над анатомическим столом и с жадностью набрасывается на труп, безжалостно полосуя на части беспомощные останки адвоката Тифферха.
Неумеренные хвалы, воздаваемые Кантом в адрес этого человека, вывели меня из себя.
— Еще одно доказательство в пользу того, что Вигилантиус — циничный шарлатан, сударь. Ему не было никакой нужды спрашивать душу убитого о том, каким образом несчастный отправился на тот свет, потому что он уже знал ответ на свой вопрос!