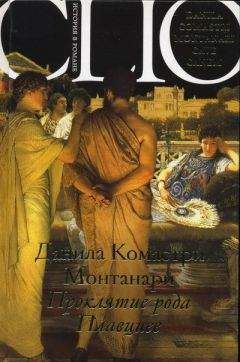Елена Ярошенко - Карающий ангел
Я полагала, что воспоминания об этих былинных временах не имели отношения к визиту госпожи Десни в мой дом, но сочла за лучшее промолчать.
Несчастная мать продолжала развивать свою мысль, говоря, что все современные девушки вообще, а представительницы некоторых вырождающихся семейств старой московской аристократии в частности равнодушны и жестоки к людям, и если ее бедный сын безвинно оказался в застенке, то немалая доля вины в этом придется на долю кое-кого, не будем называть громких имен…
Не скрою, подобные намеки в адрес моей лучшей подруги показались мне в данных обстоятельствах неуместно сварливыми.
— Не надо воспринимать все так трагически, госпожа Десни! Официальные власти по закону разберутся в степени причастности вашего сына к данному делу. А безвинные страдания — превосходный двигатель для творческих порывов. Мне доводилось слышать от поклонников поэзии вашего сына, что этот юноша далеко пойдет. Если предположить, что он пойдет по этапу в Сибирь и дойдет до Туруханского края, его трагическая муза расцветет пышным цветом.
— Как вы жестоки! О, как вы жестоки! Превращать и без того несчастного, заключенного в узилище без всякой вины человека в мишень для издевок! Какое у вас ледяное, чуждое всякому милосердию сердце. — Мученица вытащила желтый платочек в крупную сиреневую клетку и зарыдала. — Неужели вы не понимаете, что мой бедный мальчик — жертва мошенничества, орудие в руках бесчестных людей! Он слишком наивен, слишком доверчив, слишком легко поддается дурному влиянию… Не губите, не губите его, он так молод и талантлив…
Что и говорить, Варсонофий умел заставить струны материнского сердца звучать наивыгоднейшим для него образом!
— Сударыня, я не стану утверждать, что в глубине моего сердца таятся неисчерпаемые запасы милосердия и деликатности, возможно, кто-то и упрекнет меня в черствости, но, согласитесь, преступления, совершенные вашими сыновьями, слишком серьезны…
— Я ничего не говорю о старшем сыне! Полагаю, вам уже известна трагическая история нашей семьи. Нафанаил в младенчестве был оторван от матери и лишен благотворного домашнего воспитания. В том, что он стал чудовищем, моей вины нет…
С этим как раз я взялась бы поспорить, но снова промолчу.
— Но Соня, Соня! Это неземное поэтическое создание! Вы не представляете, что с ним творится, как пребывание в тюремной камере влияет на его душу, на его рассудок. Он просто-таки сходит с ума…
Я осознавала, что ум у Варсонофия — самое слабое место, и особенно рассчитывать на его устойчивость не приходится. Но все же трагизм, с которым миссис Десни воспринимала происходящее, казался преувеличенным.
— Он передал мне из тюрьмы такую страшную записку… Бедный мальчик близок к самоубийству, — продолжала несчастная мать. — Он так прямо и пишет, что готов свести счеты с жизнью. Вот, прочтите!
Госпожа Десницына извлекла из сумочки мятый бумажный листок. Я бегло взглянула на размытые слезами строки. Интересно, кто рыдал над этой запиской — поэтическое создание Соня или его безутешная матушка?
— Сударыня, вы позволите дать вам практический совет? Когда получаете письмо о том, что кто-то хочет свести счеты с жизнью, — не верьте ни единому слову. Люди, которые грозятся покончить с собой, никогда этого не делают.
— Вы хотите обидеть меня? Что ж, топчите, топчите ногами убитую горем мать. Плюйте ей в лицо. Сейчас вы можете себе это позволить!
Не знаю, каким образом утверждение, что ее сын скорее всего останется жив, можно приравнять к плевку в лицо матери, но больная фантазия миссис Десни подсказывала ей именно такую трактовку событий.
Бедная мать рыдала, закрывшись своим платочком, гармонично сочетающимся со шляпкой, а я, собираясь сказать ей еще что-либо уничижительное, вдруг не нашла слов. Более того, я почувствовала жалость к этой нелепой, безвкусно одетой, истощенной несбыточными мечтами тетке и ее дурковатому младшенькому, по ошибке отравленному тонким ядом, именуемым искусством.
Мое хроническое негодование по отношению к семейке Десницыных (за исключением одного ее представителя, находящегося в данное время в безвестной отлучке) улетучилось как раз в тот момент, когда приближалось время возмездия… Ладно уж, если поэт не убийца, а что-то подсказывает мне, что это именно так и есть, мы не станем топить его своими показаниями в пучине статей Уложения о наказаниях. Придется просить об этом членов Клуба обойденных…
— Держите себя в руках, сударыня. Я ведь не утверждаю, что ваш Соня — самый отпетый и беспринципный субъект из тех, кого порождала цивилизация. Он вполне еще способен возродиться к новой жизни и даже стать выдающимся человеком. Могу ли я предложить вам чашку чая, госпожа Десницына?
Страдающая мать отвергла угощение так свирепо, словно речь шла о покушении на ее нравственные устои.
— Благодарю, мне сейчас кусок в горло не полезет. Я могу думать только о несчастьях моего бедного сына, томящегося в Бутырском замке. Побалуйтесь чайком сами. Для некоторых жизнь продолжается…
С видом человека, истерзанного несправедливостью, госпожа Десницына гордо покинула мой дом.
Надо сказать, разговор с английской матушкой преступных братцев был довольно неприятным и оставил осадок.
Я уже давно, еще со времен своего первого замужества, приучаю себя относиться к жизни во всех ее проявлениях философски. В сущности, философия довольно простая наука, если, конечно, не берется за осмысление первичности материальных субстанций или взаимоотношений труда и капитала.
В обыденных житейских ситуациях основной философский закон — считать все, что бы с вами ни произошло, не стоящими внимания пустяками. Главное, чтобы вы сами не придавали бы этим пустякам ровно никакого значения.
Плохо только одно — как правило, вам так и не удается выработать у себя философский взгляд на жизнь…
Глава 24
Клуб обойденных не должен сложить оружия. — У постели раненого. — Можно ли доверять полицейскому агенту? — Новый замысел Щербинина. — «Это кощунство какое-то!» — «Грех отказывать, когда тебя так просят!»
— Маруся, сейчас, когда у меня прошел первый шок после кражи и восстановилась способность реально оценивать ситуацию, я думаю, в нашем деле далеко еще не все потеряно. Клуб обойденных не должен сложить оружия. Из документов, бывших в синей папке, невосстановим только черновик письма старой компаньонки. Доктора Шёненберга при определенной затрате сил можно будет склонить к повторному написанию показаний. Бумаги Петра Никодимовича остались у нас. Михаил тоже сможет еще раз изложить свою историю…
— Сможет, если выживет. Леля, пожалуйста, поедем на Сухаревку в больницу. Я не могу найти себе места. Мы, конечно, ничем ему не поможем, но нам самим будет легче рядом с ним.
— Что ж, поедем! Я тоже очень хочу проведать Мишу. А Шуру пошлем к Здравомысловым, пусть расскажет им в подробностях обо всем случившемся. У меня уже нет сил приглашать Варвару Филипповну и еще раз обсуждать кражу, покушение на Мишу и прочие новости. Шура вполне справится с такой беседой сама. Все-таки неловко оставлять Здравомысловых в неведении касательно столь важных фактов, они же полноправные и весьма заинтересованные члены Клуба обойденных.
Михаил был в забытьи, но врачи успокоили нас известием, что, по их мнению, угроза его жизни миновала. В палате у постели раненого сидел Андрей и торопливо делал в блокноте карандашные зарисовки Мишиного лица. Господи, откуда у всех творческих людей такая нездоровая одержимость в работе, наверное, и на похоронах собственной матушки он делал зарисовки, чтобы использовать трагические впечатления в новой картине.
— Мари! Елена Сергеевна! Какое счастье — врачи определенно утверждают, что Миша будет жить!
Маруся, у которой глаза и так были на мокром месте, тут же воспользовавшись поводом, заплакала от радости. У меня тоже, честно говоря, свалился с души настоящий камень. Но от слез я постаралась удержаться и решила перевести разговор в прозаическое русло:
— А что за облезлый тип топчется в коридоре у входа в палату? С такими неприятными бегающими глазками?