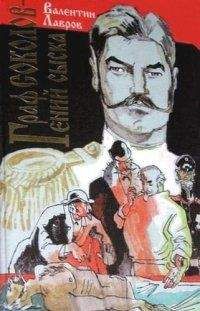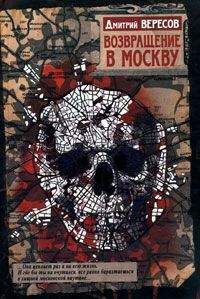Виктор Суворов - Контроль
– Именем товарища Сталина… – А дыхание срывается.
И они слышат, что срывается. Волнуется девочка. Волнение – признак неуверенности.
– …Приказываю! Не орать. Не шуметь. Пары поднимать. Сейчас едем. Куда едем? Вперед едем. Папки из этой сумки жечь. Только трепыхнитесь, перестреляю к чертовой матери.
Делать нечего. Нехотя, лениво эдак, зачерпнул кочегар уголька и в топку бросил.
– Больше, гад, бери. Копай глубже, кидай дальше! Дальше кидай. А то башку запломбирую.
Другой в топку папку бросил с надписью «Дракон». И еще одну.
– Быстрее.
Еще бросил папку. И угля в топку влетело. И еще. И еще пара папок.
А третий, главный самый, с лапами-клешнями, улыбается. Недоброй улыбкой.
– А пистолет у тебя настоящий? – И лапы-клешни к пистолету потянул. И нельзя Насте пока стрелять. Нельзя. Пока паровоз стоит. Пока… Но что делать? Нажала легонько на спуск, пистолет и грохнул. Прожгло плечо главному. Не в грудь Жар-птица ему, чтоб не до смерти.
Пуля «Люгера» имеет хорошее останавливающее действие. И отбрасывающее. Бросило главного в сторону, осел он и вывалился из будки.
– Вперед!
Бросил второй дядя ключ, ухватил за рычаги, потянул какие следует, дал пару в цилиндры. Провернуло колеса. Дернуло поезд. Лязгнули буфера, и покатился лязг от первого вагона к последнему. Выдохнул паровоз со свистом тонну пара и снова вроде вздохнул, и выдохнул с шумом. Снова дернуло состав, и снова покатился лязг к концу поезда. Медленно-медленно тронулся поезд.
В будку паровозную морда красная заглядывает. Сам на земле. Только морду видно да штык. На уровне Настиных ног морда. Но ухватился за поручни и все выше взбирается:
– Куды? Куды! Тудыть твою!
Можно было бы ухватиться руками за поручни и ногой вышибить красную морду из кадра. Но понимает Жар-птица в секундные доли, что ухватиться руками за поручни – потеря времени. Ухватиться руками за поручни означает – пистолет опустить, потом колено к подбородку вознести и рубить ногой вниз. На все это время надо. Нет у нее времени. И в будке она не одна.
Все это она не умом понимает, а внутренним чувством. И потому у нее наоборот: вначале решение исполняет, потом его принимает, а уж после обосновывает. Как только краснорожий со штыком полез в будку, за поручни хватаясь, Настя, не глядя на него, не целясь, от контроля за кочегаром и машинистом не отвлекаясь, подняла «Люгер» и нажала на спуск. Грохнул выстрел, гильзу из патронника вышвырнуло, звякнула гильза по будке железной и затерялась в кусках угля, в мусоре на полу. А после поняла, что единственно правильное решение – стрелять. Стрелять без разговоров и прямо в морды. Между глаз.
Не целясь.
12Помощник машиниста с кочегаром мигом сообразили, что тут не шутят: пошла лопата мелькать, летит уголек в топку так, вроде сам товарищ Стаханов вкалывает. Выдохи паровозные чаще и чаще. Ух-ух, и снова ух-ух. Потом ух-ух-ух. Скорости все больше. Папок в сумке все меньше. Вот и последняя с углем в топку влетела.
На паровозе порядок революционный. Прет паровоз. Знает Настя: впереди заперт путь паровозу воротами железными. И караул у ворот с пулеметом, с собаками. Только это ее пока мало заботит. За паровозным тендером – вагон. Не простой, а с тормозной площадкой. Вот главная забота. Потому как на тормозной площадке охрана. Это она тоже не разумом понимает, а чувством внутренним. Так быть должно.
Так и есть. И с тормозной площадки еще одна морда красная через тендер угольный выглянула: куда это мы вне расписания катим, и что это за стрельба?
Глянула морда и скрылась. Только штык торчит. Ждет Настя на угольной куче. Выглянула морда. А она – бабах. Скрылась морда. А винтовка со штыком грохнулась и вылетела в черную ночь.
Но ведь не один же он там. Двое должно быть. Швырнула Жар-птица туда кусок угля. Вскочила сама на груду угля и туда в площадку тормозную два раза: бабах, бабах.
А над нею лопата свистит.
Отскочила Настя с того места, на котором стояла, скользнула и падает. И в падении «Люгер» наводит и стреляет. В страшного дядьку с лопатой. Взревел кочегар. Со всех сторон – стрельба. Навалился на нее кочегар. У самого кровь горлом.
Вырвалась Жар-птица из-под убитого кочегара. Она ему в лицо одну пулю всадила, а в спине у него десяток пробоин.
Тут и врубился паровоз в ворота.
Если бы успела Настя встать, то при ударе понесла бы ее инерция вперед и бросила на рычаги, трубки, манометры, на топку распахнутую.
Но не успела Настя встать, и потому в момент удара подбросило ее на угле, потеряла она сознание на мгновение, не слышала потому ни грохота, ни скрежета.
Ждало тело ее падения в бездну, но удержался состав на рельсах. Открыла Жар-птица глаза: вроде как в новом мире. Всю обстановку заново оценить надо. Она ее сразу всю ухватила, не успев даже словами выразить. Стучит паровоз по рельсам, значит, проломал ворота, сам при этом с рельсов не сошел. Скрежещет что-то. Это обломки ворот и обрывки колючей проволоки по земле волочатся. Жива она. Тоже понятно. Она с кучи угля по охранникам на тормозной площадке стреляла. Кочегар в это время на нее лопатой замахнулся. И убил бы. Но выстрелила Настя ему в лицо, и в это же время охранники у ворот всю будку паровозную пулями изрешетили, заодно изрешетили помощника машиниста и кочегара. Кочегар упал на нее, прикрыв от пуль.
Темнота. В темноту поезд несет. Во мрак. Это тоже понятно: обломки ворот разбили прожектор и фонари паровозные. Только топка внутренность кабины паровозной белым светом освещает.
13Одна. В кабине паровозной. Взбесился паровоз. Выдыхает энергично, как спринтер на дистанции. За какой рычаг тянуть? За этот? Страшные рычаги: потянешь не тот, взорвется котел. Стрелки и так все зашкалило. И скорость выше и выше. И ритм колесный, точно как танец смерти у людоедов племени тумбу-юмбу.
Ничего не видно. Только слышно: по крышам бегут. Прикинула Жар-птица. Было у нее два полных магазина. Два магазина по восемь. Шестнадцать патронов. Сколько осталось? Сколько охранников на тормозных площадках? И куда бегут? И пуст ли поезд? Может, он зэками забит? Ясно, забит. Вечером эшелон в зону расстрельную загнали. В четыре утра разгружать планировали. И группами по пятьдесят – к шкафам. Ясно, забит эшелон. Иначе не охраняли бы его пустой.
Однозначно: в эшелоне приговоренные к смерти. Это строители подземного города в Жигулях. Износившиеся строители.
Прет эшелон во мрак и вроде качается слегка. И вроде рев прибоя Настя слышит.
Все сильнее поезд качает. Даже в паровозе качание ощутимо. Из стороны – в сторону. Из стороны – в сторону. И рев: ухх. Влево понесло: ухх. Вправо: ухх.
Рассказывала Анна Ивановна, учительница интеллигентная, полный срок оттянувшая, что есть такой прием из-под расстрела уйти. Если понимают люди, что везут их на смерть, и если везут их не в столыпинах, а в краснухах, то есть шанс освободиться. Не всем.
Все, сколько есть людей в вагоне товарном, разбегаются и валятся на стенку: ухх. Разбегаются и валятся на другую: ухх. И песню орут: «Мы умрем!» Припев у нее: ухх!!!
Поначалу толчки влево-вправо никак на вагон не действуют. Они – людишки тощие, немощные, а он – вагон многотонный. Но упорству человечьему покоряются даже вагоны многотонные. И паровозы. Понемногу начинает вагон раскачиваться. Вправо. Влево. Вправо: ухх! Влево: ухх! Чем больше скорости, тем лучше.
Конвою, ритм уловив, лучше прыгать с тормозных площадок. Тут уже ничем не поможешь: если охрана ритм раскачивания уловила, то и зэки в других вагонах его уловили. И поддержали. Пафос самоубийственного освобождения по закрытым вагонам как по бикфордову шнуру передается. И по эшелону песню орут: «Мы умрем!» И во всех вагонах бросаются на стены в едином порыве, в едином ритме.
Перед смертью к человеку освобождение приходит. Остается человеку несколько минут жить, но понимает, что мертв уже, что от смерти уже не увернуться, и вот она сейчас… Вот именно в этот момент человек становится свободным. Он бояться перестает. Нечего ему больше бояться!
И не в том свобода, что кто-то из них, может быть, не свернет шею, а в том, что не боятся люди смерти и вообще ничего не боятся.
Стоит только отрешиться от этого липкого, от этого мерзкого страха смерти, и человек свободен. Если смерти не бояться, то все остальное не страшно.
А чего, спрашивается, ее бояться? Один же черт, всем нам подыхать. И вот только перед смертью люди понимают, что зря всю жизнь боялись. Отрешиться бы давно от страха, совсем бы другая жизнь была…
Стонет эшелон, стонет, раскачивается: вправо, влево, вправо, влево… Ухх, ухх, ухх…
Настя узнала: это именно тот гул, это именно то раскачивание смертельное. Мало кому живым из катастрофы уйти удастся. Может, никому. Кто знает, под какой откос лететь предстоит. Кто знает, на какие скалы вагоны упадут, в какой реке утонут. И сейчас смерть заберет всех. А пока свобода ликует по запертым вагонам. А пока орут люди и бросаются от стены на стену в веселье самоубийственном, в восторге предсмертном. Нарастает ритм, как пляс шамана. Все чаще, все чаще. И конвоиры на крышах вагонных больше не стреляют в Настю. Не до нее. Тем, кто на тормозных площадках остался, хоть прыгать не высоко. А тем, кто на крыши забрался, каково им?