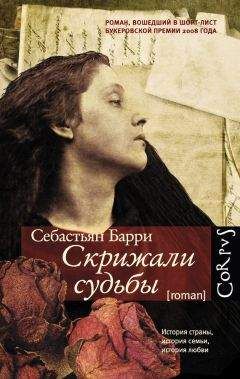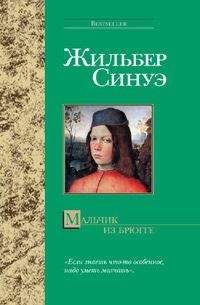Жильбер Синуэ - Сапфировая скрижаль
— Пошли. Пройдемся немного.
Женщины бок о бок прошли по громадному коридору, выходящему на мраморную лестницу. Они спустились по ступенькам и пересекли вестибюль, отделанный штукатуркой под мрамор и лепниной ярко-синего цвета. Расположенная справа дверь вела в сад. Изабелла распахнула ее и вышла наружу. Мануэла следовала за подругой. Оказавшись на свежем воздухе, королева вдохнула полной грудью.
— Чувствуешь запах жасмина? Мавры говорят, что если им сильно надышаться, то он пьянит.
— Разве не к этому ведут все излишества, Ваше Величество?
Изабелла решительно кивнула и двинулась по посыпанной песком аллее, проложенной среди алоэ и лимонных деревьев.
— Значит, — заметила Мануэла, — фра Талавера поспешил сообщить вам о моем «бегстве».
— Знай, что он сделал это вовсе не из желания навредить или позлословить. Будь ты лучше с ним знакома, то знала бы, что он выше подобной мелочности. Нет. Если уж он и решил поведать об этом, то лишь потому, что неожиданность твоего ухода вызвала у него тревогу по поводу состояния твоего здоровья. Он и вправду посчитал, что с тобой случился какой-то приступ недомогания. — Чуть повернувшись, Изабелла понимающе улыбнулась: — Что и было на самом деле, не так ли?
Мануэла лишь подняла брови, не зная, что сказать. Королева же продолжила:
— Итак, я говорила, что фра Талавера — воистину выдающийся человек. И к тому же он — министр финансов. Самое меньшее, что можно о нем сказать, — это человек удивительной объективности, когда речь идет о службе тому делу, в которое он верит. Можешь ли ты себе представить, что буквально несколько лет назад чувство долга завело его так далеко, что он конфисковал священные сосуды из церквей, дабы оплатить кампанию против Португалии? По правде говоря, Талавера — человек очень цельный и стремящийся к абсолюту. И он умудряется его достичь.
— Действительно, удивительный человек. Столько людей мечтают об идеале, но куда более редки те, кому удается его достичь. Вот я сама, например, — сколько же раз я представляла себе, что совершу нечто великое, великое и благородное, что взлечу и вознесусь ввысь. И вот я все еще по-прежнему путешествую лишь по книгам и живу на земле.
— Мне думается, ты вдруг стала слишком сурова к себе. Разве не ты буквально только что воспевала чтение и духовные радости?
Ирония тона заставила Мануэлу вздохнуть.
— Вы правы. Что поделаешь? Может, я вся состою из сплошных противоречий?
— Успокойся. Возраст и жизненный опыт однажды принесут тебе решение. Что же касается Талаверы… Если бы мне пришлось назвать его самый крупный недостаток, то я бы упомянула некоторую нехватку реализма. — Изабелла на мгновение прикрыла глаза, словно чтобы лучше припомнить. — Тому уже минуло одиннадцать лет. Если точно, то это произошло второго февраля, в Толедо. Я ехала с эскортом из Алькасара в собор. На мне тогда было платье из белой парчи, украшенное вышитыми золотой канителью замками и львами, рубиновые драгоценности, корона, мантия из горностая, которую несли за мной двое пажей. Много лет спустя, вспоминая этот день, Талавера упрекнул меня за эти «излишества и пустое бахвальство». Как бы ни был умен этот человек, он ошибся. Это богатое окружение, торжественность церемоний, блеск, который я стараюсь придать двору, внимание, которое уделяю своим нарядам, — все это для того, чтобы отделить королевскую власть от всех прочих. Они — проявление моей воли и воли моего супруга, проявление нашей воли во всех областях государственной власти. Кстати, мое решение упразднить некоторые привилегии, дарованные знати, и отстранить грандов и дворян от высших административных функций, косвенно связано с той целью, что я преследую.
По мере того как королева говорила, на лице Мануэлы постепенно появлялось некоторое смущение.
— Ваше Величество, — несколько неловко заявила она, — я так и не поблагодарила вас за проявленную вами щедрость. Без вашего вмешательства мой брат никогда — после того, как его лишили привилегий, связанных с его пребыванием в Королевском Совете, — не получил бы пост посла в Риме. Благодарю вас от всего сердца.
— Дело вовсе не в щедрости, это всего лишь дань неким тайным узам. Я говорю о тех, что с самого детства связывают тебя и меня. — Королева остановилась и посмотрела своими изумрудными глазами в глаза Мануэлы. — Дружба. Тебе ведь известна вся глубина этого слова, не так ли?
— Ваше Величество, есть ли в мире что-то более нежное, чем уверенность в чьей-то дружбе? Если бы я посмела, то сказала бы вам, что то чувство, которое я к вам питаю, — из тех, что заставляют души смешиваться, сливаться друг с другом настолько тесно, что нельзя даже найти границы между ними. Я только что критически высказывалась о любви. И могла бы еще добавить: что касается лет и разлук — чему мы сами являемся свидетелями, — время ослабляет любовь, но укрепляет дружбу. — Чуть помолчав, она закончила: — Но это вовсе не отменяет того факта, что за моего брата Хуана я перед вами в долгу. И надеюсь, однажды мне представится случай доказать, насколько я вам признательна.
— Знаю, — уверенно ответила королева. — Нисколько не сомневаюсь, что ты так и сделаешь. И когда этот день настанет, то никакой попытки отвертеться уже не будет.
— Ваше Величество! — раздался из-за деревьев чей-то голос. К ним бежал слуга. Подбежав к государыне, он отвесил церемонный поклон. — Ваше Величество, прибыл гонец. Супруг Вашего Величества только что пересек Тахо. Он будет здесь менее чем через час.
Королева и глазом не моргнула.
— Отлично. Пусть предупредят мою дуэнью и фрейлин. И накроют стол.
— Будет исполнено, Ваше Величество. Слуга, поклонившись, удалился по аллее.
— Фердинанд здесь? В Толедо? Я не ждала его раньше конца недели. По последним сведениям, он вел сражение в окрестностях Лохи. — Она внезапно сменила тон: — Я тебя оставлю… Увидимся позже. — И удалилась быстрым нервным шагом.
ГЛАВА 2
Самуэль, друг мой, шалом леха. В Толедо идет дождь, и, не знаю почему, это тяжелое небо, висящее над Тахо, напоминает мне брюхо огромной беременной мавританки.
Прости меня за дрожащий почерк и огрехи в этом письме. Когда я пишу это письмо, рука моя, некогда твердая и уверенная, мне изменяет, и глаза мои, уставшие от слишком многих бессонных ночей, затуманиваются вопреки моей воле. Дело в том, что за последние месяцы я измарал столько страниц, написал и стер столько слов…
С момента твоего отъезда произошло много всего. За пять лет? Десять? Не важно. Когда достигаешь нашего преклонного возраста и воспоминания покрыты морщинами, не очень обращаешь внимание на утекшее время. Ведь единственное, что важно, — это грядущие времена, не так ли? Что до меня, то никогда еще это изречение не казалось мне столь верным. И причина тому проста: я скоро умру.
Не вздрагивай, друг мой Самуэль. Позволь себе ностальгию, но не грусть. Если она и придет, то, что я намерен поведать тебе, вызовет у тебя такие сильные чувства, такие могучие, что мое исчезновение вдруг покажется тебе чем-то совершенно не важным.
Не знай я, что ты за человек, не знай о силе наших уз, о единстве мыслей, не подозревай о том уважении, которое ты ко мне всегда питал, почтении — да-да, почтении, — неоднократно проявленном тобой в отношении меня, я бы никогда не осмелился доверить тебе это послание. Никаких сомнений, что любой другой, кроме тебя, узнав о том, что я изложу ниже, наверняка счел бы это бредом старого сумасшедшего. А ты — я точно знаю — так не подумаешь. Я помню, что твоя вера в меня напоминала Вади-эль-Кебир, великую реку. Полноводную, неизменную. Я убежден, что ни возраст, ни разлука не уменьшили ее.
Конечно, я отдаю себе отчет в том горе, точнее, разочаровании, которое ты испытал в то осеннее утро, когда я решил отринуть веру Авраама и принять религию Назарея, присоединившись таким образом к стаду свиней. Тех из них, что живут здесь, называют марранами.
Каждое существо по-разному реагирует на испытанные потрясения.
Ты выбрал солнце Гранады, я — тень Распятого. Многие наши братья поступили так же. Почему? Почему здесь, в Испании, так много людей предпочли обращение в христианство, тогда как всюду в других местах и во все времена наш народ предпочитал изгнание, а иногда и смерть, отречению?
У меня есть ответ. Возможно, ты его не примешь, но я тебе его дам. Преследование иберийских евреев восходит к стародавним временам, когда на Полуострове безраздельно властвовали короли визиготов. С тех пор это преследование продолжалось и усиливалось.
Видишь ли, Самуэль, друг мой, наступает в жизни преследуемого человека момент, когда способность к сопротивлению его покидает. Когда сильно раздувают пламя, то первые слабые отблески затем разрастаются и освещают ночь.
Что до меня, то знай: я вскоре расплачусь за свое отступничество. Но действительно ли это было отступничество, если все эти годы, когда я вставал на колени в церквях, в глубине моей души голос кричал «Ш'ма Исраэль, Адонаи Элохену, Адонаи Эхад». Слушай, Израиль, Бог — Всесильный наш, Бог Один!