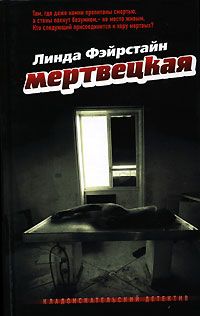Сергей Лавров - Мултанское жертвоприношение
От этих соображений уместно перейти к оценке результатов судебно-полицейской деятельности тех именно приставов и урядников, которые, собственно, создали и принесли сюда, на суд, весь нужный обвинению материал. Период первый. Деятельными раскрывателями преступления являются на первых порах местный урядник Соковников и расторопный, всюду сопутствующий ему волостной старшина Попугаев. Мы уже знаем, как тщательно они охраняли труп, как позволяли проветривать его, чистить веником… По части «психологических улик» они с чистосердечным рвением восприняли лишь вопль аныкских крестьян: «Вотяки!» и с священной неприкосновенностью передали его по инстанциям. Пробовали они еще подсаживать кое-кого из мултанских подростков, чтобы те слушали, что станут говорить между собой в холодной предварительно арестованные и посаженные вместе мултанские вотяки; но и из этих похвальных приемов производимого вне всяких правил дознания ровно ничего не вышло, кроме, разумеется, развращения крестьянских подростков. Но о таких поступках, само собой разумеется, говорить не стоит!
Затем наступает второй период дознания. На сцену выступает более высокий полицейский чин, местный пристав господин Тимофеев. Он немного всюду запаздывает. Он и к трупу прибыл только на пятый день для составления своего знаменитого акта осмотра от десятого мая, послужившего, как известно, неисчерпаемым материалом для филологических и грамматических споров и изысканий. С появлением господина Тимофеева, не любящего окидывать взором слишком далеко вокруг себя, раз зародившиеся подозрения только упорствуют, стоят на месте, не двигаясь ни взад, ни вперед. Сказано, Мултан — так, стало быть, Мултан в ответе и будет. Если бы было подсказано название другого села, господин Тимофеев сменил бы только земских лошадей и поехал бы дальше. Но остановиться пришлось в Мултане. И вот, кроме попыток объяснения всех самых невинных явлений в жизни мултанских вотяков с точки зрения самой подозрительной, в этот период дознания в сущности ничего нового не открывается. Но зато с рачительностью и неослабным служебным рвением все истолковывается в смысле самом подозрительном, все подгоняется под заранее готовую мерку. В Мултане четвертого мая был, несомненно, какой-то нищий. Этой несомненности достаточно, чтобы нищий этот оказался именно Матюниным. В тот голодный год нищих бродило множество и, наверное, в то же четвертое мая их прошло через Мултан не один человек, но с этими соображениями вовсе не желает справляться господин Тимофеев. Каждый нищий, виденный четвертого мая в «преступном» Мултане, для него — Матюнин. Моисей Дмитриев с женой средь бела дня по главной улице села везут пятого мая какую-то кладь, покрытую рогожей, — для господина Тимофеева этих сведений более нежели достаточно. Это вывозили труп Матюнина. Естественное соображение о том, что была уже целая ночь в запасе, чтобы вывезти труп, не подвергаясь опасности каждую секунду быть открытыми, для него не существует. Два вотяка бредут куда-то шестого или седьмого мая с пестерями за спиной (местные крестьяне ходят всюду с пестерями, как наши русские с котомками за плечами), это — выносили отрубленную голову Матюнина. И подобная проницательная догадливость идет красной нитью через все дознание господина Тимофеева. Он тверд и решителен в своих выводах. Он ищет и находит. Он находит и волосы, и кровь, «приобщает к делу» и пестерь, и грязное корыто, и полог, служивший в клети подстилкой. Все это оказывается впоследствии, по возвращении из медицинского департамента и врачебной управы, ненужным хламом, но он свое дело сделал. Совесть его чиста. Чиста уже потому, что никакой сознательной фальши в дело он не внес, никого он не притеснил, никому угроз не делал, ни у кого не выпытывал и не выматывал сознания. И на этом этому ревностному, но скромному служаке, приходится сказать спасибо!
Но вот господин Тимофеев мало-помалу удаляется, устраняется от мултанского дела, самая идея которого, однако, не только не падает, не ослабевает от всех неудач следственных розысков, но, наоборот, тут-то и разгорается самым ярким пламенем. Творцом следующего периода дознания, третьего по счету, должен почитаться урядник Жуков. Это — тот свидетель Жуков, который, со скромными приемами мирного обывателя, затеял якобы надолго поселиться в Мултане. Он стал заводить знакомства. Результаты деятельности этого доморощенного сельского Лекока настолько сами по себе ничтожны, что могли бы быть пройдены вовсе молчанием. Он кое-где подслушал, кое-что слышал, обо всем этом нам поведал, но в целом все его показание свидетельствует лишь о сплошной пустоте и бессилии собранных им якобы улик. Если деятельность этого заурядного полицейского сыщика должна быть нами отмечена, то лишь потому, что в этот период уже проявилась положительная тенденция не только к розыску улик, но и к созданию таковых.
Так, эпизод со взяткой, будто бы предложенной ему Кузнецовым и представленной затем по начальству, есть уже до известной степени осуществление той назревшей идеи дознания, что пустоту нужно наполнить во что бы то ни стало. Появление и затем бесследное исчезновение Жукова, с его мягкими кошачьими приемами сельского сыщика, не увенчавшимися достаточным результатом, вносит поэтому в дознание лишь трепет какого-то предчувствия и тревожного ожидания. Чувствуется, что не все кончено. Жуков выступает только предтечей самого не по летам грозного господина Шмелева, того «пристава другого уезда», который славился на всю округу своим неотвратимым сыскным рвением.
Он пришел! Пришел со всеми специфическими приемами нашего обычного доморощенного сыскного рвения. Тут и превышение власти, и угрозы, и насилия, и, наконец, кощунственная присяга на чучеле медведя! Я говорю только о том, о чем имею право говорить. Это установлено следствием, и подтверждено документами. Теперь взглянем на результаты этой «энергичной» деятельности. Надо поистине преклониться перед стойкой выносливостью простых людей, побывавших в переделке у господина Шмелева. В былое время с дыбы каялись же в мнимых преступлениях ни в чем неповинные люди. Надо изумляться, как вотяки выдерживали «натиск» господина Шмелева, как мало сравнительно «наболтали» они, как сдержанно и осторожно давали свои показания. Всплыли наружу только рассказы о том, что «Кузька резал, Васька за ноги держал», или: «Будет, одного уже свезли, довольно!» и т. д. Но всего этого, подтвержденного даже присягой на чучеле медведя, оказалось все-таки слишком мало. И вот тут-то начинаются те настоящие чудеса (т. е. успешные результаты) дознания господина Шмелева, которым господа обвинители придают такое доказательное значение и о которых действительно стоит сказать несколько слов.
Во-первых, появляется один волос Матюнина. Спустя два года после происшествия господин Шмелев самолично находит этот волос на балке шалаша Моисея Дмитриева. Это случается уже после того, когда следователь многократно делал осмотры и не нашел ничего, кроме того, что нашел. Но господин Шмелев «случайно» находит один волос, и притом именно волос Матюнина. О приобщении этого драгоценного вещественного доказательства к делу не составлено никакого протокола; протокола обыска, при котором найден тот же волос, равным образом не имеется. Вся сила единственно в господине Шмелеве. Нас приглашают без всякой критики поверить его свидетельскому показанию. Но будет ли это посильным бременем для судейской совести? Нельзя же забыть, что шалаш и злополучная перекладина не раз до того тщательно осматривались, что прошло два года, что ни одного подобного волоса в том же шалаше ранее не усмотрено.
Конечно, вольно верить обвинению, что господин Шмелев совершил действительно чудо. Но простите нам, простым смертным, не увлеченным слепой верой в чудесное, наш скептицизм. Волосы Матюнина есть, и найдены при трупе. Это порядочный пучок никем не сосчитанных волос, несомненно фигурирующих на протяжении всего дознания, следствия и здесь, на столе вещественных доказательств. «Пучок» волос остается, конечно, пучком, и когда из него вынут или «затеряют» один волос… Вы видите, это такая малая величина, о которой затруднительно даже говорить. В руках господина Шмелева как раз оказалась такая «малая величина» — всего только один волос! Следует ли углубляться мыслью в источник происхождения этого таинственного волоса? Не благоразумнее ли будет поставить вообще крест на всем этом эпизоде и, основываясь на отсутствии протокола обыска и приобщения к делу находки господина Шмелева, просто признать, что волос этот оказался неизвестного происхождения. «Чудо» господина Шмелева останется, таким образом, навсегда окутанным надлежащей дымкой таинственности. Это как нельзя больше приличествует истинному чуду!
Вторая главная улика, появившаяся в мултанском деле в период сыскной деятельности господина Шмелева, заслуживает не меньшего внимания. Я говорю о свидетельском показании ссыльнокаторжного Головы, который, готовясь к отправке в Сибирь, дал неожиданно весьма пространное показание о том сознании, которое будто бы сделал ему содержавшийся с ним в тюрьме Моисей Дмитриев, главный заподозренный по мултанскому делу, к тому времени уже умерший. Мертвый, конечно, бессилен опровергнуть сделанный против него оговор. Но я думаю, что в самых подробностях свидетельского показания Голова, в связи с историей приобщения к делу господином Шмелевым этой новой, важной по делу улики, мы найдем уже все признаки искусственного ее созидания. Ответы господина Шмелева на наши расспросы дают для этого достаточный материал. Ранее, нежели каторжник Голова согласился дать свое изобличающее мултанских вотяков показание, господин Шмелев, по собственному его сознанию, побывал у него три раза в тюрьме. Узнал же он о том, что Голова «кое-что знает по этому делу», из полученного им, Шмелевым, анонимного письма. Теперь спрашивается: зачем же понадобилось приставу трижды навещать каторжника в тюрьме? На это дает ответ тот же господин Шмелев. По его сознанию, все эти разы он подолгу беседовал с арестантом и увещевал его дать показание следователю. Итак, показания каторжника Головы явились результатом собеседований и увещеваний энергичного и находчивого пристава господина Шмелева.