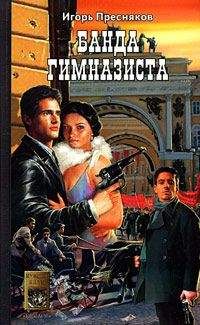Игорь Пресняков - Роковая награда
Народ прибывал, толчея усиливалась. Утро разгоралось. Выползали из своих логовищ беспризорники и воры-карманники. И вот уже слышался по базару чей-то исступленный вопль: «О-ой! Люди добрые, обокрали-и-и! Держи-и!» Однако удержать хватких воришек удавалось редко – они ловко смешивались с толпой, пропадали.
Повсюду шел торг:
– Гляньте-ка мясо какое! Прямо дышит, еще вечером бегало, мычало.
– Разве ж это мясо? Телок-то больно худосочный, чай, своей смертью помер. И не уговаривай!..
– Ай да рыбка! Зеркала не надо, засмотритесь.
А спинища – в два кулака… Ну, копеечку скину, уважу.
– Да неужто это рыба? Одна голова на два фунта потянет. Не-ет! Пятак сбрасывай, не меньше…
– Куда вы, гражданочка, уступлю! У меня не сметана, а живое масло, попробуйте!.. А? Какова?
– Неважная сметана, отчего-то тряпками воняет… А коли ты ее сам кажный день лопаешь, что ж такой костлявый?..
Нередко возникали серьезные перепалки:
– Ты что это, жулик, меня обобрал? – кричала на торгаша взбешенная хозяйка. – Продал, змей подколодный, сатин по двадцать копеек за аршин, а у Ивашки Захарова – по пятнадцати?
– Извиняйте, мамаша, я вас в первый раз вижу, – холодно отвечал лавочник.
– Посмотрите на него, люди добрые! – возопила хозяйка. – Я же пять минут назад брала у тебя сатин! Наглые твои глаза. Вот ворюга, морда спекулянтская, да чтоб тебе ни дна не было, ни покрышки; чтоб тебе мои денежки поперек горла прожорливого встали, тьфу в твои наглые глаза, вот тебе, гадина!.. Куда бежишь? От народа не ускользнешь, рвач бессовестный! Креста на тебе нет. Подожди, черти тебя утащат, спросят, как есть, за все обиралово твое спросят. Знай, плут, батюшка говорил, сама слышала: «Тяжело войти мироеду в царствие Божие!..»
* * *Коммунальные квартиры просыпались перед рассветом. Тихо совершали туалет, завтракали и уходили на заводы рабочие, прихватив под мышку сверток с обедом. Проводив кормильцев, начинали свои утренние хлопоты их жены и невестки. Где-то плакал разбуженный малый ребенок, выстраивалась первая очередь в общую уборную. Подхватив сумки и корзины, домохозяйки отправлялись на базар, и квартира затихала до подъема совслужащих.
С их пробуждением очередь в уборную увеличивалась, громче раздавались голоса, слышался приглушенный смех. В ожидании туалета варили кашу и кипятили чай. Когда подходила очередь, слышался крик: «Иваныч, твой черед!» – и Иваныч семенил к уборной, рискуя потерять на ходу шлепанцы.
Последними вставали совчиновники и детвора.
В это время домохозяйки уже возвращались с базара, и завтрак советского бюрократа щедро приправлялся свежими сплетнями.
Наконец из квартиры выпроваживались дети, и хозяйки принимались за уборку и стирку. В общей ванной всем стирать было тесно, предпочтение отдавалось тем, у кого «накопилось», остальные выносили корыта во двор и затевали стирку на свежем воздухе.
* * *В то время, когда на улице появлялись готовые к трудовым подвигам совчиновники, открывались магазины и мастерские. Дворники уже почистили и полили мостовые, и теперь на влажных тротуарах возились приказчики и работники – отворяли ставни и мыли окна. Отражаясь в чистых витринах, мимо проносились экипажи, клаксонили автомобили, скрипели телеги, грохотал трамвай. Спешили на занятия веселые неопохмелившиеся студенты. День начинался.
Начинался он и в «Сапожном ателье» Абрама Моисеевича Аграновича.
Старик Агранович принадлежал к наиболее многочисленному профессиональному сообществу города – цеху обувных дел мастеров. Подвальчик Абрама Моисеевича больше четверти века располагался в конце Губернской улицы, там, где она вливалась в Еврейскую слободку. Старый сапожник, в былые времена веселый и почитаемый дамами различных сословий, последние годы стал угрюм и брюзглив.
Когда-то молодой Абрам Агранович парил в розовых облачках мечтаний и радужных перспектив: росли сыновья, продолжатели отцовского дела, расцветала красавица-дочь. Абрам Моисеевич и сам не заметил, как подул холодный ветер и сгустились тучи на небосклоне его идиллической жизни. Сначала грянул Февраль, и грохнулась Империя. Все бы ничего, сапоги продолжали носить и в демократической республике, но случился Октябрь, и стало совсем плохо. Правда, большевики тоже носили обувь, однако норовили за нее не заплатить, а взять силой.
Первый удар семье нанес старший сын, Илья. Любимец отца, окончивший с отличием реальное училище, исправно посещавший синагогу и делавший успехи в сапожном деле, вдруг записался в большевики! Спутал светлый и праведный путь Илюши Борька Гирковин, подловатый отпрыск соседа, Осипа Ивановича. Старший брат Борьки, Григорий, уже будоражил город и слыл за вожака большевиствующих бездельников.
Жутко обиделся на сына Абрам Моисеевич, да что толку? Новая власть велела детям не считаться с мнением отцов. Не послушался угроз и уговоров старого Аграновича и Илья. Как и все «идейные», ушел он на фронт, где и нашел свою смерть. Зарубили Илюшу вместе с непутевым дружком Борькой в донских степях справные и лютые до большевистской крови белые казачки.
Долго убивалась мать, Белла Львовна, покрылся мраком мир для старика Абрама. Но неблагодарным деткам Аграновича этого было мало! Вырвала душу родителей красавица Сара: влюбилась, дура, в горластого комсомольца Шагина и ушла с ним в подполье, когда город взяли деникинцы. А уж как хотел Абрам Моисеевич выдать Сарочку за сына галантерейщика Беренса! И Семка Беренс ее любил, и старый Лейба был не против…
Повесили Сарочку вместе с Шагиным, мучили перед смертью зверски, так, что мама Белла не узнала в повешенной дочери, билась, кричала, не верила. Абрам Моисеевич верил. После семнадцатого года и смерти Илюши он во все, что угодно, мог поверить. Постарел Агранович, сгорбился, замкнулся в себе. Никто в улице больше не слышал его веселых прибауток. Надолго слегла Белла Львовна, часто заговаривалась и встала на ноги только через год.
Оставалась одна надежда – Яшенька, худенький глазастый юноша, во многом походивший на отца в молодые годы. Яша был десятью годами младше брата. Его души не коснулись времена большевистской эйфории, и от ужасов гражданской родители постарались Яшу оградить. В 1920-м он окончил семилетку, и отец начал обучать его ремеслу. Яша не перечил, однако был неусидчив. Он рано расцвел для любовных утех и больше поглядывал на девчонок, нежели на рваные сапоги клиентов. Любил Яша и деньги, особенно большие и предпочтительнее – легкие. Едва Яше исполнилось семнадцать (роковое число для старика Абрама!), он заявил, что сапожником быть не желает, а собирается открыть «свое дело». Никакого дела отец не замечал, а видел только праздношатающегося сына, спящего до полудня и имевшего, невесть откуда, огромные деньги. Абрам Моисеевич понял, что ремесло его жизни умирает.
Однако мама Белла подобными сомнениями не мучилась – ее любимец Яша был здоров, сыт и весел. Старик Агранович ворчал, понукал жену и при случае негодника Яшку. Теперь жизнь стала казаться Абраму Моисеевичу злой и ненавистной. Он даже перестал ходить в синагогу, которую, впрочем, вскорости закрыли. Единоверцы Аграновича горевали, а он ехидничал: «Так вам и надо! Вам нужен Бог? А он теперь в губкоме, и вы его отлично знаете. Сходите туда и поклонитесь. И капур, капур не забудьте прихватить, да на него розеточку алую пришпильте, уж я вас прошу!»
…Сегодня старик Агранович открыл мастерскую в положенный час, отпустил ранним клиентам выполненные заказы, принял к ремонту пару ботинок и отправился завтракать, оставив за себя подмастерье, косого Эфраимку Гурвича.
Ковыряя вилкой яичницу, Абрам Моисеевич справился у жены:
– Что Яшка?
– Спит, пришел поздненько, – улыбнулась мама Белла.
– «Поздненько»! – передразнил жену Агранович. – Распоясался, негодник.
Он повернулся в сторону комнаты сына и прокричал:
– Яшка! Вставай, в лавке людей полным-полно, отец тебя просит.
Молодой Агранович разлепил глаза и помянул, по привычке, обычное русское – о совокуплении его папаши с собственной матерью. Затем он повернулся на другой бок и захрапел дальше.
Абрам Моисеевич прислушался к звукам в комнате сына и обратился к жене:
– Видишь, мамочка? Ему до нас дела нет. Разбаловали сыночка, а все вы, Беллочка, ваше сюсюканье и пришептывание!
Белла Львовна не ответила, только вздохнула и вышла на кухню. Она давно привыкла к брюзжанию мужа.
* * *А в центре города, на Губернской, в десять утра открывалась биржа – место составления и разорения капиталов, заключения сделок и различного рода «темных» операций. Здесь встречались клерки и дельцы, в черных костюмах, подтянутые и важные, держащиеся так, как будто ничего за семь лет не изменилось. Маклеры вежливо улыбались друг другу, пожимали руки: «Нуте-с, проведем, Иван Иваныч, денек с пользой.
У меня к вам, кстати, есть предложеньице. Да-с!»