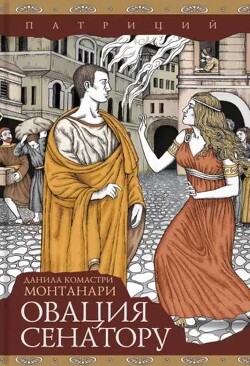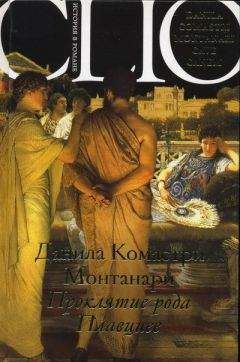Смерть куртизанки - Монтанари Данила Комастри
— Будь это так, — снова заговорил Руфо, — хозяин дома, пригласивший нас, мог бы открыть нам имя убийцы и положить конец этой недостойной комедии. Если бы я знал, Аврелий, что меня здесь ожидает, то ни за что не пришёл бы сюда. Я был глупцом, когда поверил, будто ты хочешь умереть как римлянин, прожив жизнь как хитрая собака. — Старик с презрением огляделся. — Я допустил ошибку: достоинство обретают не после смерти, но при жизни. Думаю, ты вовсе не собирался вскрывать себе вены; более того, подозреваю, что просто стараешься схитрить и отодвинуть как можно дальше единственный правдивый момент в твоём жалком существовании, который мог бы сделать тебе честь как мужчине и как римлянину. Поэтому поторопись, Аврелий, ни я, ни мои дети не намерены долго ждать. Или, может быть, ты и меня собираешься обвинить в убийстве дешёвой проститутки и моего зятя?
— А почему бы и нет, благородный Руфо? Твоя суровость не спасает тебя от некоторых обвинений, напротив, делает одним из наиболее вероятных участников этого события. Но ты ошибаешься, если думаешь, будто я хочу сказать, что ты убил Коринну в пылу неудержимой страсти. А вот ради защиты своих принципов ты мог бы сделать это совершенно хладнокровно.
Старик посмотрел на него без всякой обиды.
— Действительно, существует немало веских причин для убийства. Я, конечно, убил бы, не поколебавшись, если бы счёл это необходимым. Разве не то же самое делают каждый день солдаты на войне? Разве не это призваны делать судьи в наших судах ради общего блага? Когда ветка отсыхает, мы отрубаем её. Когда рука заражена и гангрена может распространиться на всё тело, мы ампутируем руку. Позволь сказать, что я не считаю преждевременный конец куртизанки и даже моего зятя невосполнимой утратой для общества. Слишком много шума поднялось вокруг их смерти. Прежде придавали больше значения не тому, как умер человек, а как он жил.
— Ну конечно, Руфо, мне нетрудно представить тебя в роли сурового Брута [66], который казнит своих детей, виновных в том, что те не исполнили солдатский долг, или в роли отца целомудренной Вирджинии, вонзающего кинжал в грудь дочери, лишь бы избавить её от позорного рабства. Да, ты увлечён великими примерами древности, и я остерегусь обвинять тебя в низких чувствах. Но даже ты не всегда был лишён плотских желаний, — продолжал Аврелий.
— А ты хотел бы, Аврелий, чтобы римский сенатор вёл себя как весталка или отказался бы от своего мужского достоинства, кастрируя себя, подобно жрецам Кибелы [67]? — возразил строгий патриций.
— Вот именно, благородный Руфо, вот именно! В этом, конечно же, никто не может обвинить тебя, — согласился Аврелий, бросив взгляд на прекрасную Лоллию. — Поскольку моя речь не ущемляет твою честь, прошу тебя набраться терпения и выслушать её. Я буду осуждён, и если уж не могу доказать свою невиновность, то позволь мне хотя бы открыть до конца печальную историю, в которую ты тоже волей-неволей вовлечён, и поставить точку в этой, как ты считаешь, комедии.
Кивнув в знак согласия, Руфо предложил ему продолжать.
— У меня есть ещё одна история, которую я хочу рассказать вам. История несчастливой и безответной любви.
— Я люблю только Иисуса Христа! — вскричала Клелия, хотя никто ни о чём её не спрашивал.
— Зато твой драгоценный Энний, к сожалению, всегда предпочитал твоему чистому, целомудренному обожанию вызывающую красоту твоей сестры!
— Ты, негодяй! Бог накажет тебя за твои богохульные слова!
— Я не страшусь бессмертных богов, которые и так уже наказали меня, позволив обвинить меня в том, в чём я не виноват. Значит, я могу продолжать, не опасаясь, что меня испепелят молнии Зевса или твоего Христа.
Аврелий посмотрел прямо в глаза девушки, и она опустила их.
— Моя бедная Клелия, ты завидовала Коринне с самого детства, не отрицай этого. Знаю, что ты всячески подавляла в себе это чувство, считая своим долгом любить сестру и прощать её, но так и не смогла этого сделать. Она была красивее тебя, пренебрегала вашей работой, сваливала её на тебя и лишь позволяла любить себя человеку, которого ты обожала. Ты могла подарить Эннию радости семейного очага и добродетельного счастья, но он предпочёл бегать за грешницей Коринной. Нет, не терзай себя за то, что ненавидела её: твоё чувство понятно, оно человечное.
— Но не христианское… — прошептала Клелия, опустив голову, и достойно, без слёз, заговорила: — Это верно, я ненавидела её, хотя и знала, что не должна так поступать. Ненавидела и надеялась, что Бог накажет её за распутную жизнь, за то, что она сделала с Эннием. Я думала: это будет ужасно, если она заболеет какой-нибудь страшной болезнью, ведь тогда он не захочет и смотреть на неё. Но она только становилась всё красивее и преуспевала в грехе, тогда как я лишь губила себя ожиданием. Когда я узнала, что её убили, первое, о чём подумала: это справедливо, таким и должен быть её конец. Потом вспомнила, как мы росли в детстве, и не могу простить себя за эти мысли.
— Клелия! — произнёс плотник и хотел было взять её за руку, но так и не решился к ней прикоснуться.
— Но это ты ударом кинжала убила сестру, которая отняла у тебя любимого мужчину, да или нет, отвечай! — строго спросил Аврелий.
— Я лишь желала ей смерти, но тем самым всё равно что убила, теперь Бог накажет меня! — воскликнула Клелия и отчаянно разрыдалась. Энний смотрел на неё, не говоря ни слова.
— Если эта женщина ненавидела сестру, значит, вполне возможно, что и убила её! — визгливым голосом вдруг закричал Гай. — И кроме того, только она сама говорит о своей невиновности. А чего стоят слова жалкой распутной женщины, входящей к тому же в мерзкую христианскую секту, которая на подозрении даже у императора!
— Мой сын прав, Аврелий, — заметил Руфо. — Я тоже не стал бы доверять словам какой-то последовательницы Христа; всем известно, что эта новая секта держит в секрете свои отвратительные и кровавые обряды. К тому же их пророк был казнён как смутьян.
При этих словах Клелия подняла голову и, оскорбившись за свою веру, нашла мужество ответить самому уважаемому гостю собрания.
— Всё, что тебе известно о нашем учении, и то, о чём говоришь сейчас, не соответствует истине, благородный Руфо, — с достоинством произнесла она. — Мы не совершаем позорных или противоречащих законам Рима поступков. Да, наши службы предназначены только для наших братьев и сестёр во Христе, но то же самое происходит и во многих других верованиях, у их служителей тоже есть свои таинства, у Митры и Изиды, например.
— Все эти ритуалы годятся только для восточных рабов! — взорвался сенатор. — Для развратных египтян или для обрезанных евреев. А ты, случайно, не еврейка?
— Нет. Я — дочь вольноотпущенника из твоего клана, благородный Руфо.
— В таком случае ты должна приносить пожертвования нашим ларам [68] вместо того, чтобы бездельничать и болтать всякую ерунду о какой-то восточной вере! — строго заключил сенатор.
— Дискуссия о религиях, конечно, очень интересна, — вмешался Аврелий, — но она уводит нас от нашего разговора. Прошу вас, друзья, отложите ваши споры. Я не слишком полагаюсь на помощь бессмертных богов, как бы они ни назывались, и не надеюсь продолжить в другом мире мою жизнь, которая близится к концу. Время идёт, поэтому позвольте довести до вас мои соображения.
В зале воцарилась уважительная тишина.
И Аврелий обратился к Марции. Она до сих пор ещё не произнесла ни слова.
— Хотя ты овдовела совсем недавно, Марция, всё-таки вынужден упомянуть и тебя, — решительно заговорил он. — В самом деле, вполне возможно, что Клелия убила свою сестру, но в таком случае как объяснить убийство твоего мужа и ловушку, в которую меня завлекло письмо, написанное, как я думал, твоей рукой?
Руфо побледнел от возмущения:
— Как ты мог подумать, что моя дочь назначит тебе свидание? Или ты полагаешь, будто имеешь дело с одной из твоих грязных потаскух?