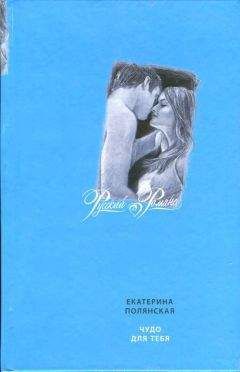Чудо, тайна и авторитет - Звонцова Екатерина
Прежде чем Иван ответил, смуглые широкие пальцы потянулись к нему, взяли легонько за подбородок, опять повернули — самую вроде малость, под каким-то понятным только графу углом. Он послушно оцепенел, рюмку так и держал в отведенной руке, пытался сообразить, куда смотреть. В глаза — не мог.
— Может, таков мой изъян: я всех люблю за души, — проговорил граф. — И вижу в этих душах что-то, чего в телах может и не быть, и влечет меня к ним нешуточно. — Руки он все не убирал. — В вас вот мне, ей-богу, виделось что-то такое быстрое, крылатое, золотистое…
В ту минуту щеки у Ивана горели: от наливки, от огня, но более всего — от шершавого касания, которое беспокоило его, и далеко не в приятном смысле: он такое не любил. Он себя одернул: такая у графа манера, для него с кем-либо пообщаться, не коснувшись разок-два — плеча или локтя, запястья или хоть пуговицы на пиджаке, — было невозможно. Сестру и дочь он каждое утро нежно расцеловывал в щеки; под настроение мог поймать в объятия племянника; по спине хлопал кого угодно из слуг, не обижаясь, впрочем, когда те уворачивались. Но сердце у него было доброе; руки в ином смысле он ни на кого не поднимал, да что там — не кричал почти, даже за провинности вроде потерянных денег, поломанной мебели и не починенной вовремя крыши. Его любили со всеми панибратскими чудачествами; Иван тоже. Поэтому он просто перетерпел — и его отпустили. Удобнее садясь в кресле, граф вновь стал водить карандашом по бумаге.
— А откуда это в вас? — тихо спросил он. — Вы говорили что-то о вашем тезке из новой книги Достоевского, о юноше с похожими склонностями. Литературное то есть воровство, так? Скорее бы уже официальная публикация, чтоб составить мнение!
Иван помедлил, все же покачал осторожно головой, но постарался скорее вернуть ее в прежнее положение. Он бы хотел просто кивнуть, уверить, что Федор Михайлович, с которым пересеклись у редактора и завязали в итоге смутное приятельство, закономерное на почве схожих убеждений и общих кормушек, послужил вдохновителем, наставником, светочем — любое громкое слово… но нет. Федор Михайлович был вечно весь в себе и своих книгах, а вечер сегодня получался честный. Пусть так и останется.
— Думаю, дело в том, что в детстве мне хотелось, чтобы такой… защитник существовал. — Он сделал еще глоток наливки. — Которому могли бы писать обиженные, как пишут сейчас Осе; который бы заставлял всех, всех видеть, как этим обиженным плохо, как они растоптаны, как боятся; который в своем роде был бы волшебником. Ведь вы правы, слова газетные — тоже заклинания.
Рука графа дрогнула. Лицо осталось застывшим, но голос изменился, чуть охрип:
— Вас…
— Нет, — спешно перебил Иван, угадав, куда устремились его мысли. — Нет, что вы: к счастью, мы были бедны, но дружны; такими и остались, даже когда отца хватил удар. Но у меня не было денег учиться на дому или в благородном пансионе; меня отдали в обычную гимназию. И друзья у меня были разные, все из неподатных сословий [19], но компания пестрейшая. Купеческие дети, дворянские, сын врача, поповский сын…
Не хотелось возвращаться в воспоминания по-настоящему: проживать потрясение, какое испытал, поняв постепенно, что всех закадычных приятелей так или иначе наказывают дома. И не то что розгой по рукам за шалость в классе. Несколько часов босиком на горохе; порка ремнем, после которой не сядешь и не ляжешь; полночи на улице в крещенский мороз. Лишь серьезный лохматый Митька, сын купчихи-вдовы, сошедшейся со становым приставом [20], ни на что не жаловался. Его, как и Ивана, не били, да еще баловали то шоколадом, то книгами, то игрушечным оружием. В классе ему завидовали: пристав был большой по провинциальным меркам начальник и нравом обладал пусть лихим и строгим, зато вроде добрым, участливым. Вечно заходил узнать, как там успевает его «сынок», широко улыбался учителям, слушая об успехах в математике и интересе к механике… Митька не жаловался. Просто в некоторые дни приходил с ожерельем темных синяков на шее, от которых все взрослые прятали глаза; в другие не мог сидеть, точно как те, кого пороли за разлитое молоко. Ближе к тринадцати годам он просто взял — и прыгнул в майский вечер под несущийся на Тверь поезд.
Все это Иван сбивчиво, как можно суше пересказал. Граф, слушая, почти не поднимал головы. По лицу невозможно было прочесть, что он ощущает; ресницы опять почти прикрыли глаза — но взгляд вспыхнул, стоило повиснуть тишине. Темные губы, ставшие ярче от наливки, дрогнули. И граф тихо сказал:
— Что ж. Вы овладели отличным оружием — жаль, это все, чем я могу вас утешить. — Он медленно повернул лист к Ивану. — Вот… как-то так.
В первую минуту Иван решил, что на портрете совсем не он: и щеки не казались круглыми, и подстриженные у дешевого цирюльника волосы — неопрятными, и во взгляде темнело что-то такое, чего в зеркале он отродясь не замечал. Запечатленный человек определенно собой гордился, знал себе цену; в нем чувствовались твердость и храбрость, ну а неряшливая беспородность его была скорее очаровательна, чем отвратительна. Иван задумался было, начал подбирать тактичные комплименты вроде «Слишком хорошо, чтобы быть правдой». Но секунды шли, а с ними картинка будто менялась сама по себе. Если рассматривать черты в совокупности, знакомый облик действительно не складывался; если же приглядываться к каждой отдельно… вот же они, щеки, а вот небрежность; вот криво обрезанная прядь у уха и длинноватый острый нос-жало. Ни одного изъяна не упущено, но все равно красиво. Красиво в сумме, а не каждым слагаемым. «Влечение к душам», как есть и «корзина с яблоками». Таким граф его видел? Или все же не совсем его, а скорее Осу? Лестно. И он прошептал:
— Невероятно.
Граф удовлетворенно улыбнулся, кивнул и протянул ему лист. Выдвинул ящик, убрал остатки чистой бумаги и принадлежности — и, как обычно, тщательно запер все на ключ. Тогда это не настораживало. Тогда Ивану вообще было все равно, что там хранится, — листы и листы; у всех ведь есть свои секретные уголки.
— Буду видеть в этом немного лучшую версию себя, — сказал он.
— А потом и станете ею, — уверил граф. — Вы многое однажды перевернете в этом мире. Я таких вижу за версту.
Они выпили еще наливки. Тяжелая и дурманящая, она была совсем как эта красная удушливая толща, которая много лет спустя уносила Ивана все дальше из прóклятого дома.
4. Инок
Сущевская полицейская часть
Рука не болела, раны не было, но не покидало чувство, будто К. и вправду потерял недавно много крови. Вкус ее на языке мешался с желчной горечью, колыхал липкую неотступную тошноту. Хотелось пить, вот только было нечего: не открывать же коньяк, от которого станет лишь хуже? К. все же ощупал бутылку, просто чтобы убедиться: запечатана. Вслепую пошарил по столу потной, трясущейся ладонью и никакого ножа, конечно же, не обнаружил. Выдвинул ящик — перламутровая ручка и чистое острое лезвие сонно блеснули из густой тени. Что… привиделось? Все-все? Отчего же тогда так скверно, будто телегой переехали?
К. сидел на прежнем месте, за столом, но реальность качалась; он был один, но перед глазами плясали какие-то силуэты; вещи двоились, а потолок и стены то угрожающе наползали, то устремлялись прочь. Невыносимо… невыносимо, и на одной только свече, по-прежнему расплескивающей золото в темную ночь, можно было удержать сбитый прицел взгляда. На свечу К. и уставился, сосредоточенно и упрямо, сглатывая один за другим желчно-кровавые комки. Минута, две… мир успокоился, силуэты пропали, а во рту стало просто сухо, но не так уже противно. Теперь можно было и передохнуть без страха, что завалишься со стулом вместе, вывернув попутно желудок. К. сложил руки на столе, прижался к ним лбом и зажмурился, горбя плечи, точно черепаха, прячущая голову в панцирь. Не спать — так он себе велел. Не спать, просто хорошенько подумать.