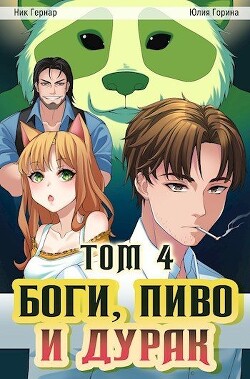Бретёр - Яковлева Юлия
— Пс, — чихнула собачка. А дама изящно приложила платочек к своему носу.
Мурин предположил, что госпожа и собачка за годы совместной жизни срослись в единый организм, скрепленный животным магнетизмом (он слыхал про магнетизм также от образованного Ипполита). Глазки дамы забегали:
— Право, это довольно неожиданно. Дело, просьба… Я даже не знаю… Мы с вами незнакомы. Но я припоминаю… Авдотья Ивановна Мурина, в Пензе мужа моего покойного знакомая, не родня ли вам?
— Отдаленная. — Мурин понятия не имел ни о какой Авдотье Ивановне.
— Славно, — обрадовалась дама. — Я сразу так и подумала.
Указала Мурину на креслице, спинка его была покрыта вышитой салфеткой, чтобы господа не засаливали ее помадой для волос. Села сама, собачка вспрыгнула ей на колени.
— Какую же просьбу вам было благоугодно ко мне обратить?
Мурин устал от напряжения, в котором его держала обстановка квартирки, ее хозяйка и ее собачка, которая опять — «Пс!» — чихнула, Мурин невольно отодвинул ногу подальше — не набрызгала бы — и рубанул с плеча:
— Я хотел бы купить у вас принадлежащего вам мужика. Андриана Еремова.
Глазки дамы заметались. На щеках показались два розовых пятна.
— Это действительно… весьма неожиданно. Господин Мурин.
— Понимаю. Я дам ту цену, которую назовете.
Обстановка выглядела скромной, дама показалась не рамольной, он надеялся на ее благоразумие.
— Даже не знаю. Он трезвого поведения. Немолодой, вдовый.
«Ба», — подумал Мурин: вот так и узнаешь.
— Дети его уж выросли.
«Опять — ба!»
— Сколько он еще проживет, — практично размышляла дама. — Надо бы справиться в описи, сколько ему точно годков… Лет десять точно еще протянет. Если чахотку не схватит. Или несчастный какой случай… Но он поведения трезвого. Исправно присылает оброчные деньги. Уж не знаю, как он и где их зарабатывает, но присылает. Десять рубликов в месяц. Сколько ж это в год. Сто двадцать. Да если помножить на десять, даже на пятнадцать… Он вполне здоров, значит, все пятнадцать проскрипит, так, на пятнадцать помножить… — Она подняла на Мурина задумчиво горящий взор, а затем объявила: — Тысячу восемьсот рублей. Золотыми. Ассигнации я не возьму.
— Что? — вскрикнул Мурин. Собачка издала «Гр-р-р… Пс!» — и снова улеглась хозяйке на колени.
Брови недоуменно поднялись к краю чепца.
— Тысячу? Восемьсот? — спросил он уже потише.
Он утром успел изучить в газете, поданной к кофию, объявления об «отпуске в услужение» крепостных людей (но все понимали, что речь шла о продаже), смирился с тем, что придется заплатить за Андриана рублей триста. И даже готов был гнуть до пятисот, если барыня окажется тертая. Но никак не готов был, что его ставку просто смахнут со стола. Тысяча восемьсот!
— Но, дорогая сударыня, столько может стоить повар у графа Шереметева. А не… — он успел проглотить то, чего сообщать явно не следовало: — …обычный крепостной, к тому же немолодой и без семьи.
— Что ж, повара на продажу у меня нет.
— Но и я — не граф Шереметев.
Она поднялась и сделала движение к шторам с бомбошками, Мурин решился, запихал стыд подальше, и сказал:
— Сударыня. Прошу вас. Ведь я еду в действующую армию. Возможно, меня убьют. Сделайте мне одолжение. Ведь покупка у вас этого мужика, может статься, последняя радость в моей жизни…
Дама остановилась. На лице ее проступило нечто вроде сочувствия. В Мурине опять затеплилась надежда.
— Да какая ж вам с него радость? — искренне, точно убеждая ребенка, молвила она. — Он же из солдат калекой вернулся. Безногий. На деревяшках ходит.
— На деревяшках?!
Барыня глянула сочувственно:
— Зачем вам калечный?
Мурин кашлянул и доложил:
— На волю отпустить. Дать ему свободу.
Барыня посмотрела на него круглыми глазами. Затем взгляд ее отвердел:
— Что ж. Прошу всепокорнейше меня простить, что не смогла вам услужить. Но быть замешанной в безумствах такого рода не желаю. Эдак меня и в якобинцы, в робеспьеры запишут. Сердечно была рада…
Кровь бросилась Мурину в лицо. Мысли взвились, как пламя, когда приоткроешь дверцу печи. «Безумство? А людей продавать и покупать — не безумство? Сотни подсчитывает. А сама еще неизвестно сколько протянет. У самой этих десяти лет, может, нет. Куда деньги-то копит? В гроб себе?» Он подумал: как это мерзко. Он подумал: как ноги, значит, отдать за отечество, так он для вас — человек. Равный мне и вам. Так? Он подумал: или как-то не очень справедливо выходит, нет? Либо уж люди свободны — все. Либо их можно продавать и покупать, но тогда тоже всех. И еще неизвестно, сколько бы дали за какую-нибудь старую сопливую мымру. Купил бы ее кто-то вообще? Никчемную, увядшую, ни на что не годную…
И только тогда понял, что кричит, а собачка — лает.
Он умолк. Тишина зазвенела.
— Сударь, — холодно сказала дама. — Вы — в моем доме.
Красный, он стремглав выскочил, затопотал вниз по ветхой лесенке, рискуя сломать шею. Вылетел из дверей, как из пушки. И тут же влип в Андриана. Тот поймал его в объятия.
Мир стал подтаивать, расплываться, от Андриана пахло потом, мокрой шерстью, Палашом. Чтобы не смотреть ему на ноги, Мурин вжался лбом, глазами, носом и вдруг зарыдал. Он плакал бурно, как в детстве, и слезы приносили облегчение. Андриан постукивал его по спине.
— Ничего. Ничего. Всякое бывает.
На станции они простились. Мурин пересел на ямщика.
Мимо скользили серые поля, затянутые сизым туманом. Они скользили по его глазам, точно по водной глади, пока не заскользила темнота. Мурин так и не переменил положения. Виском прижимался к раме окна. Мысли его были отрывочны. «Что будет со всеми нами… Как с этим всем придется жить? Облепят всякими мифами… греко-римскими элементами. Залатают эту дыру. Поставят заслонку между собой и тем, что мы испытали. И мы вернемся к ним. К тем, кто этого не испытал. Нам придется. И мы будем жить».
Остановились на следующей станции сменить лошадей. Мурин не захотел выйти размять ноги, хотя следовало бы. Его охватила странная апатия. Ямщик на ходу бросил на него взгляд искоса. Заглянул в лицо.
«Ишь, пацанчик совсем». Подошел, протянул папиросу.
— Покури, барин. И я покурю.
Мурин не стал ломаться, вышел. Взял. Закурили. Постояли. Сизый дым завитком исчезал, едва вырвавшись изо рта. Было темно и холодно. На станции горели окна.
— Сколько ж тебе годков, барин?
Мурин надбавил:
— Девятнадцать.
Ямщик затянулся, щурясь от дыма, качнул головой. Вынул флягу.
— На вот, глотни. И я глотну.
Снега еще не было. Небо сливалось с землей.
— Эк вызвездило, — показал глазами ямщик. — Знать, к морозу.
Мурин тоже посмотрел вверх.
![Татьяна Рожнова - Жизнь после Пушкина. Наталья Николаевна и ее потомки [Только текст]](/uploads/posts/books/45805/45805.jpg)
![Татьяна Рожнова - Жизнь после Пушкина. Наталья Николаевна и ее потомки [только текст]](/uploads/posts/books/45806/45806.jpg)