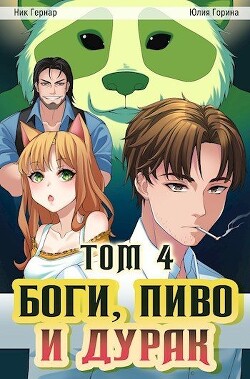Бретёр - Яковлева Юлия
— В самом деле? Не уверен… Как будто бы стоял…
— Мы иногда замечаем странные вещи, не отдавая себе в этом отчета. Один из дежурных сказал мне: «C тех пор мне противно было ужинать в ресторане». Почему? Не могут же у конного гвардейца быть воображение и нервы, как у артистки. Конечно же нет. Это и не была игра воображения. Ужин в ресторане внушал ему отвращение, потому что офицер смотрел на свой ростбиф, а видел то же, что и в буфетной игорного дома, куда его вызывали: кровь — и свежую скатерть. Проломив жертве голову, негодяй поставил окровавленный подсвечник на стол. Но это не вяжется с состоянием Прошина, каким его все рисуют, судя по положению, в котором обнаружили: пьяного, обезумевшего, яростного. Нанеся зверский удар, он бы отшвырнул подсвечник. Он бы его выронил, забыв о нем в ту же секунду. Но он бы не поставил его аккуратно на стол. Прошин, и это совершенно неоспоримо, был пьян до бесчувствия, когда в буфетную вошли очевидцы.
— Хм. Как будто бы. Но он мог убить, когда был пьян очень, но еще не слишком. Поставил подсвечник. А потом со страху накидался еще больше, прямо там, в буфетной. Пока не свалился с ног. Со страху — или просто потому, что там батареями стояли открытые бутылки.
Мурин предпочел не спорить.
— Допустим, — пожертвовал он пешкой. — Перейдем к другому пункту. Почему? Почему он ее убил.
— Ах, мы все хоть раз испытывали это чувство. И вы, и я. Женщина вам отказывает. Вы злитесь. Но вы отвешиваете ей поклон и отчаливаете. А тут — вам отказывает какая-то паршивая проститутка…
— Жертва не была проституткой! Она даже женщиной не была!
— Что, простите? — изумился полковник. — Уж не задирали ли вы трупу юбки?
— Не я, не вы, не дежурные. Мы же люди comme il faut, нам бы это и в голову не пришло. Никому бы не пришло. Труп не стали вдумчиво осматривать. Просто похоронили. У нас ведь тут не Сюрте.
— Что, простите?
Мурин вспомнил совет Ипполита не хвалить французов и со стыдом ему последовал:
— Я говорю, труп никто не осматривал в свете установления истинной картины происшествия. Но те, кто обмывали его к погребению, не могли не увидеть, что это тело мужчины.
— Виноват. Как вы сказали?
Мурин кивнул.
— Убитый — мужчина?
— Мужчина. Спросите тех, кто обмывал. А не отыщете их, так могила еще свежа. Скорее всего, она находится на Охтинском кладбище. А может, и нет. Убитый был состоятельным человеком.
Полковник Рахманов схватился за виски, начесанные вперед, как у императора, которому подражали все, кто хотел сделать карьеру.
— Б-боже правый. Погодите. Вы уверены? А платье? А шаль? А длинные волосы?
Мурин закатил глаза. Кашлянул.
— Вспомните князя Додурина. Вспомните девицу Александрову. Люди, которые отрицают и отвергают пол, в котором родились, существуют. Дело не в этом. Все знали этого человека как женщину. Видели разорванное платье. Сделали вывод, что Прошин пытался изнасиловать. Таков механизм человеческой мысли. Человека просят снять штаны, человек немедленно думает о своем благонамеренном.
Ротмистр скромно опустил рассказ о своем страхе перед китайцем, страхе, который и высветил для ротмистра закономерности этого механизма.
— Прошин сам всячески отрицал, что покушался на эту… особу.
— Прошин… Он же не помнит ничего.
— Не помнит. Он говорил о некоем чувстве, что этого не было и не могло быть. Он встретился с убитым как игрок. А не как посетитель борделя.
— Уф, Мурин… Ну подкинули вы мне… А есть у вас что-нибудь, кроме ваших мыслительных построений? Я не говорю, что ради истины не готов пойти на отворение могилы, но…
— Бритва. В квартире убитой… кхм, убитого, я увидел бритву. Тогда как в шкафах висели только дамские платья, и ничто среди вещей не указывало, что здесь обитает еще один человек, мужчина.
— Ну бритва, — потянул полковник Рахманов. — Мы все знаем, что дамы бреют себе подмышки. К балам и прочему. Виноват, вы неженатый человек, от вас эти тайны еще пока укрыты романтической дымкой. Но дамы это действительно делают, ротмистр.
— Я знаю, полковник, что дамы это делают и зачем они это делают.
Мурин боялся, что покраснеет, потому что вспомнил черную щетину, которая пробивалась у Нины в подмышках, как правило, на второй-третий день после бала; он находил это страшно забавным…
— Я обратил внимание, что в шкафах этого несчастного были только платья с длинными рукавами. И ни одного бального.
— Бог мой… Но зачем вы туда потащились? В жилище, я имею в виду… Да еще шарили по шкафам этого… человека.
— Я искал вексель.
— Что?
— Прошин накануне играл. И счастливо. На тридцать тысяч.
Полковник не удержался, присвистнул.
— Недурно. Но только какую роль это здесь играет?
— Роль истинной причины преступления. Ради тридцати тысяч убийца на него пошел. Этого векселя нет ни в бумагах Прошина. Ни в его холостяцкой конуре, ни в доме у его тетки. Ни в бумагах жертвы.
— А эта… Этот… Одним словом, жертва… Фу-ух. Ну подбросили вы мне дельце, ротмистр.
— Корнет Прошин тоже жертва. И если мертвому ростовщику уже нельзя помочь, то корнет ждет помощи.
— Да, но все же может быть убийцей.
— Как?
— Ну, он же не знал, положим, что эта… этот… Тем более если был пьяный. Хвать ее за это место. А там, значит, вот такущий уд. Разозлился. Пьяный. Впал в бешенство. Тюк.
— Осмотрите Прошина сами. Он сидит под замком. На нем ни царапины, ни синяка. А ведь жертва был мужчиной. В женском платье. Но мужчиной. Он защищался. Он дрался. Его одежда была разорвана, когда его нашли. Это — и еще кровь.
— Вот. Крови там было — не то слово. Когда мы их нашли.
— Но ни капли на одежде самого Прошина.
— Откуда вам знать?
— Потому что я сам ее забрал, когда по поручению семьи привез узнику чистое платье и перемену белья.
— Но вы ж не стирали сами.
— Я отдал китайцу чистить и стирать. И тот взял с меня наименьшую цену. Он заломил бы как следует, если бы ему пришлось выводить и отстирывать кровавые пятна. Их не было.
— М-да… — Полковник сцепил руки замком и принялся крутить большими пальцами, не сводя глаз с этого моторчика. — М-да… Китайцы отменно стирают. Лучше финнов.
Мурин продолжал горячо:
— Я понял, что имею дело с театральной постановкой. Убийца, истинный убийца устроил ее для нас. Как опытный режиссер, он сделал то, ради чего пришел. Убил. Поставил подсвечник на стол — ему не терпелось освободить руки, чтобы подтащить одно тело к другому. Ведь дело было в буфетной в разгар вечера. В любой момент мог войти лакей за бутылками или нераспечатанной колодой.
Моторчик крутился:
— Да, но этого недостаточно…
Мурин хватил кулаком по столу:
— Черт побери, полковник! Этого достаточно для обоснованного сомнения! Для того, чтобы снять с корнета обвинение. С корнета, который безвинно сидит под арестом, в крепости! Хотя любой с первой же секунды, только увидев его лицо, его руки, на которых не было ни царапин, ни ссадин, понял бы, что Прошин виноват в том, что нажрался, как скотина, но не в убийстве. Вы боевой офицер, вы бывали в схватках, в рукопашной драке, вы-то знаете, что такое невозможно.
— Хм… Хм… Вот уж мы у вас и виноваты. Что ж вы сами бродили столько времени? Не больно вы хороший друг вашему товарищу, получается. Почему сразу не подняли тревогу?
Это было несправедливо. Но спорить Мурин счел бессмысленным. Он пожертвовал и этой пешкой.
— Я не хотел спугнуть настоящего убийцу. Я сразу понял, что это не Прошин. Когда увидел, что его лицо и руки не повреждены. Но пока я прояснял обстоятельства, убийца, истинный убийца, должен был оставаться в уверенности, что дело выгорело. Иначе бы он сбежал.
— Кто ж он?
Мурин поднялся:
— На его физиономии, на руках наверняка еще сохранились следы драки. Его видели в игорном доме ночью накануне. Он проиграл той ночью тридцать тысяч. Он украл свой же вексель. Не мое дело его искать. Мое дело — освободить корнета Прошина от подозрений.
![Татьяна Рожнова - Жизнь после Пушкина. Наталья Николаевна и ее потомки [Только текст]](/uploads/posts/books/45805/45805.jpg)
![Татьяна Рожнова - Жизнь после Пушкина. Наталья Николаевна и ее потомки [только текст]](/uploads/posts/books/45806/45806.jpg)