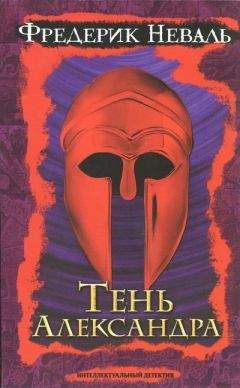Юлиан Семенов - Горение. Книга 4
— Пан Доманский, — ладонь доктора Корчака легла ему на плечо, — пойдемте ко мне… Вы задерживаете дыхание, это — плохо… Вы отдохнете у меня, а потом я позволю вам подняться к сыну еще раз… Пошли…
В кабинетике Корчак поставил на спиртовку кофе, поинтересовался, не голоден ли гость; недоуменно, наново обсмотрел Доманского, когда тот сказал, что ему всего тридцать три, вполне можно дать пятьдесят, потом спросил:
— Вы боретесь оттого, что это стало для вас привычкой, или действительно верите, будто жизнь можно изменить хоть в малости?
— Действительно верю… Доктор, а отчего у мальчика ссадина на виске?
— Трудные роды… Его сюда привезли ко мне, словно стебелек, в чем только жизнь… Нет, нет, сейчас он набирает, сейчас все позади… Это пройдет, очень красивый ребенок, он — ваша копия…
— Мне кажется, сейчас еще об этом преждевременно говорить, комочек, разве можно понять, каким он станет?
— Я готов нарисовать портрет будущего человека в первый миг рождения дитяти, пан Доманский… Именно в первый миг ребенок имеет то самое лицо, каким оно станет в конце его отрочества… Вообще мне кажется, что физиогномика — не что иное, как тайна портрета, спроецированная на область высокодуховного, тайного… Мадам Бовари и Санчо Пансо — это портреты эпох… Их можно было понять, эти портреты, даже в первый миг их бытия…
— Только эпохами они стали благодаря случаю, — улыбнулся Дзержинский.
— Так и не так, — ответил Корчак. — Мириады образов, существовавших в мире, являли собою эпохи, и — если подняться над миром и глядеть сверху — картины, казалось, будут торжеством случая. Но ведь рождаются Толстой, Шопен или Сервантес и своим гением вычленяют из этой бесконечности портретов те, которые и становятся определяющими эпоху… Случаен ли Пушкин, Флобер или Сенкевич? Не знаю, полагаю все же, что закономерны, как закономерно добро…
— То есть вы хотите сказать, что протекание истории невероятно трудно для обозрения?
— Именно. Именно так я и хотел сказать, — Корчак улыбнулся. — Доброта человека яснее всего делается понятной, если он ставит такие вопросы, которые помогают тебе самому утвердиться в своей значимости, а отнюдь не малости… Вы — умный… Поэтому ответьте, что готовит нам история — в ближайшем будущем?
— История — категория прошлого, пан доктор Корчак, — мягко поправил Феликс. — А что касаемо будущего, то оно рисуется мне примерно следующим образом: после того как уйдет Столыпин, на его место придет либо военный диктатор — что, в общем-то, маловероятно, ибо царь страшится любого второго подле себя, — либо, скорее всего, какой-нибудь послушный специалист, креатура промышленников или банкиров… Заметьте, как газеты Гучкова начали костить Столыпина за его «аграрные привязанности и забвение судеб отечественной промышленности»… Но все это ненадолго…
Корчак вздохнул:
— Не выдавайте желаемое за действительное, пан Доманский. Во-первых, кто вам сказал, что Столыпин уйдет? Во-вторых, после нашего восстания тоже говорили, что Петербург победил ненадолго, а уж полвека прошло, и мало кто помнит то время… В этой империи все надолго, пан Доманский, тут сильна пуповина, то есть инерция таинственных связей прошлого с будущим, поверьте… У меня ведь не только грудные, пан Доманский, я воспитываю детей вплоть до шестнадцатилетнего возраста… И учебные программы мне утверждают в северной столице… И у меня волосы шевелятся от ужаса от того, как мне предписывают лгать маленьким.., Костюшко — наемник Лондона, побуждавший поляков за фунты восстать против власти славянского государя… Людвиг Варыньский вообще не существовал, его вроде и не было на свете… Не было зверств над разгромленными поляками, никто не погиб, не был повешен и не сгнил на каторге… Не хотят, чтобы был девятьсот пятый год… Хотят, чтобы я учил детей тому, что у нас — самая счастливая жизнь, что мы — богаты духом, что мы — опора человеческой мысли, что мы — светоч добра в мире гомонливого капитала… Как мне быть? Уйти отсюда, чтобы не лгать? Тогда приют кончится, пришлют другого попечителя, который вытравит мою душу, приведет новых людей, узаконит страшную бурсу… Лгать? Но тогда мои питомцы предадут меня презрению, выйдя из этих стен и столкнувшись с практикой нашей страшной, имперской жизни… Как быть?
— Вы задали мне горький вопрос, пан доктор Корчак… Я не знаю, как ответить вам…. Вообще-то, если рискнуть заглянуть вовнутрь, в таинственную суть проблемы, то возникнет страшнейшая гипотеза: а не уничтожает ли человек самого себя, производя потомство? Познавая — он уничтожает прекрасные иллюзии, остается один на один с правдой бытия… Дав жизнь новому человеку, он самим этим фактом утверждает смерть как финал жизни… Я живу верой свободы, она проста, как формула: пока есть право одного человека быть хозяином над другим, пока закон может казнить меня за то, что я смею выразить свое несогласие с существующим, я обязан быть, чтобы бороться с несправедливостью. Потом, когда моя идея свободы восторжествует, я стану думать над философией нового периода человеческой истории. Мне легче: я несу ответственность перед многими; вы смотрите в глаза детей, а им нельзя лгать — это преступление, которое не подлежит прощению… Если вы уйдете, будет, по-моему, хуже… Попробуйте выработать какую-то пограничную линию между ложью и правдой; продержаться надо совсем недолго.
— Это невозможно, пан Доманский. Во-первых, ждать надо долго, очень долго, век, а то и два, пока народится психология свободы личности; во-вторых, на меня сразу же напишет донос один из тех пяти нестойких, кто есть в приюте… В-третьих, дети чувствуют лучше, больнее и тоньше, чем мы, способные на поиск пограничности в решении…
(Доктор Корчак так до конца своих дней и не смог найти эту линию: когда гитлеровцы загнали его, старца, в Освенцим и в мире началась кампания протеста, а он был нобелевским лауреатом, и Гитлер не хотел рвать все контакты со Швецией, там был марганец и бензин, — доктору предложили освобождение. «Только с моими воспитанниками», — ответил Корчак. «Тогда освобождение в небо», — сказал комендант лагеря, и доктора сожгли вместе с еврейскими, польскими, русскими и украинскими детьми.)
Время решений. Август 1911 года
«Пусть лицедеи учатся у меня искусству интриги!»
Отправляясь на встречу с Богровым, Кулябко дважды проверился: чист абсолютно.
Спиридович рассказывал, как однажды филеры, сдуру, от чрезвычайного усердия, повели Азефа, а потом и вовсе задержали; самый ценный провокатор империи оказался на грани провала из-за того, что родная обломовщина сработала — поленились вовремя сообщить службе наружного наблюдения отработанный годами приказ: «Урода, проходящего по кличке „Роза“ или „Незабудка“, с ярко выраженной внешностью, вывороченными губами, чрезмерно жирного, страдающего одышкою, в дорогом костюме нерусского производства, ни в коем случае не задерживать, вести наблюдение крайне осторожно».
Вывести Азефа — после того ареста — из-под удара его же друзей-эсеров стоило огромного труда.
(Впрочем, Спиридович выдвинул версию, что этот арест был следствием глубокой интриги, проводившейся новым шефом петербургской охраны генералом Герасимовым в борьбе за приобретение Азефа в свое безраздельное пользование. «Родная обломовщина» — с неотправленным приказом — была разыграна как спасительное прикрытие в схватке честолюбивых, а потому кровавых амбиций во время подготовки охранкой очередного террористического акта против членов августейшего дома.)
Кто знает, как себя ведут ныне самые близкие к Столыпину люди?
Столыпин не может не чувствовать, что кольцо вокруг него стягивается, а он не таков, чтобы уходить без боя. Значит, его люди задействованы против тех, кого он считает противниками. Гучков и Милюков пока еще не имеют реальной силы; он понимает, что главный противник — Царское Село, значит, нитку от Спиридовича сюда, в Киев, протянул наверняка; ходит и смотрит за Кулябкой кто-то неизвестный, стоглазый, страшный и отчеты Столыпину пишет.
— При свечах станем ужинать, — сказал Кулябко, — романтично, в духе драматических произведений Чехова.
— Чем вызвана такая секретность, Николай Николаевич?
— Столыпиным, Дмитрий Григорьевич, Столыпиным
— Чем больше я думаю про то ваше письмо, что мне прочитал ваш посланец в Ницце, тем больше оторопь берет…
— Дантон начал со службы революции, а кончил на плахе под топором палача, призванного на казнь революцией. Извивы истории, ничего не попишешь, борьба за власть, одно слово…
— Неужели Столыпин и впрямь считает, что может стать над государем? — спросил Богров. Кулябко пожал плечами:
— Отчего нет? Англия — пример заразителен; есть король — нет короля, все решают Даунинг-стрит и парламент. Думаете, Столыпин не лелеет мысль о создании подобного рода конструкции на русской почве? Как доехали? Глаз ничьих за собою не чувствовали?