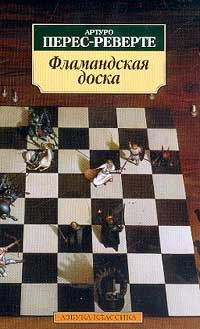Артуро Перес-Реверте - Фламандская доска
Муньос слушал с рассеянным видом, будто его мысли витали где-то совсем в другом месте.
– А что там с полицейским расследованием?
– В конце концов они найдут убийцу, если таковой имеется. Они же всегда находят.
– Вы подозреваете кого-нибудь?
Хулия рассмеялась.
– О Господи, конечно же нет! – И остановилась, не досмеявшись. – По крайней мере, надеюсь, что нет… – Она взглянула на шахматиста. – По-моему, расследовать преступление, которое, может, и не является таковым, – очень похоже на то, что вы проделали с картиной.
На лице Муньоса опять появилась прежняя полуулыбка.
– Думаю, тут все дело в логике, – ответил он. – И, возможно, логика – именно то, что роднит шахматистов и детективов… – Он прищурил глаза, и Хулия не могла понять, в шутку он говорит или всерьез. – Говорят, Шерлок Холмс тоже играл в шахматы.
– Вы читаете детективные романы?
– Нет. Хотя то, что я читаю, пожалуй, имеет с ними некоторое сходство.
– Например?
– Разумеется, шахматную литературу. Потом, математические игры, логические задачи… В общем, такого рода вещи.
Они пересекли безлюдный проспект. Взойдя на противоположный тротуар, Хулия снова потихоньку окинула взглядом своего спутника. Он не производил впечатления человека, наделенного исключительным умом. В общем-то, судя по всему, жизнь у него складывалась не слишком гладко. Руки, глубоко засунутые в карманы, потертый воротник рубашки, большие уши, торчащие над воротником старого плаща… Он выглядел именно тем, кем был на самом деле: мелким, никому не известным служащим, для которого единственным средством отрешиться от серости своего существования был уход – бегство – в мир комбинаций, задач и решений, открываемый перед ним шахматами. Самым любопытным в этом человеке был его взгляд, разом угасавший, едва он отрывался от шахматной доски. И еще то, как он наклонял голову как-то вбок, словно некая непомерная тяжесть давила ему на шейные позвонки, как будто таким образом он пытался уклониться от лишних соприкосновений с внешним миром. Он напоминал Хулии пленных солдат, плетущихся с низко опущенными головами, которых она видела в старых документальных фильмах о войне. Муньос был похож на человека, проигравшего свою битву еще до того, как она началась, который каждое утро, проснувшись и открыв глаза, чувствует себя побежденным.
И все же в нем было нечто. Когда Муньос объяснял какой-нибудь ход или распутывал сложные шахматные переплетения, в нем появлялись уверенность, твердость, блеск, как будто глубоко под его неказистой внешностью жил и полыхал великолепный талант – логический, математический, какой угодно, – придававший вес и значительность каждому его слову и движению.
Хулии захотелось узнать его поближе. Она поняла, что не знает о нем практически ничего, кроме того, что он играет в шахматы и служит бухгалтером. Но было уже слишком поздно. Их совместная работа закончилась, и было мало вероятно, что они когда-нибудь встретятся снова.
– Странные у нас сложились отношения, – сказала она вслух.
Взгляд Муньоса несколько секунд блуждал, как будто в поисках подтверждения этим словам.
– Обычные шахматные отношения, – ответил он. – Мы с вами были вместе столько времени, сколько длилась наша партия. – Он снова улыбнулся своей смутной, ничего не означающей улыбкой. – Звоните мне, когда вам снова захочется сыграть.
– Вы меня просто сбиваете с толку, – вдруг проговорила она. – Правда, честное слово.
Он остановился и удивленно взглянул на нее. Теперь на его лице не было улыбки.
– Не понимаю.
– Я тоже, если дело в этом. – Хулия немного поколебалась, не слишком уверенная в почве, на которую ступала. – В вас как будто два разных человека. Иногда вы робеете, замыкаясь в себе, становитесь как-то трогательно неловки… Но как только в воздухе хотя бы отдаленно запахнет шахматами, вы обретаете прямо-таки поразительную уверенность.
– И что же? – безразличным тоном спросил шахматист, когда Хулия замолчала, не доведя до конца свои рассуждения.
– Да ничего. Ничего больше… – И, пристыженная собственной болтливостью, принужденно усмехнулась. – Наверное, это выглядит нелепо – в такой-то час. Простите.
Он стоял перед ней – руки по-прежнему в карманах плаща, из-под расстегнутого ворота рубашки на плохо выбритой шее выступает кадык, голова чуть склонена к левому плечу, точно в раздумье над только что услышанным. Однако он уже не казался растерянным.
– Я понял, – сказал он, делая резкое движение подбородком сверху вниз, словно принимая на себя ответственность, хотя Хулия и затруднилась бы ответить за что. Потом он пошарил взглядом за ее плечом, как будто в надежде, что кто-то подскажет ему забытое слово. А затем сделал то, о чем девушка потом всегда вспоминала с изумлением. Стоя там, на улице, меньше чем за минуту, с помощью всего лишь полдюжины фраз, бесстрастным и холодным тоном, как если бы речь шла о каком-то третьем лице, он вкратце рассказал ей – или это Хулии показалось, что рассказал, – свою жизнь. Он говорил быстро и ровно, не делая пауз, с той же точностью и четкостью, с какой объяснял шахматные ходы. Хулия была ошеломлена. И когда, закончив, он замолчал, по губам его опять скользнула эта слабая улыбка, как будто насмешка над собой, над тем человеком, которого он описал несколько секунд назад и к которому не испытывал ни сочувствия, ни презрения – только что-то вроде солидарности, разочарованной и понимающей. А Хулия стояла лицом к лицу с ним и долго не находила, что сказать в ответ, и задавала себе вопрос, как этот малоразговорчивый человек сумел так четко объяснить ей все. И она узнала о ребенке, мысленно игравшем в шахматы на потолке своей спальни, когда отец наказывал его за недостаточное усердие в учебе; узнала о женщинах, способных с ловкостью часовщика разбирать и вывинчивать те пружины, которые движут человеком; и узнала об одиночестве, составляющем оборотную сторону неудач и отсутствия надежды. Все это внезапно открылось перед Хулией – настолько внезапно, что у нее даже не было времени обдумать услышанное, и в конце, последовавшем почти сразу же за началом, она не была уверена, какую часть поведал ей он, а какую она досочинила сама. Имея в виду, в общем-то, что Муньос занимался в жизни не только тем, что втягивал голову в плечи и улыбался, как усталый гладиатор, которому безразлично, куда – вверх или вниз – поворачивается палец, решающий его участь. И когда шахматист закончил говорить (если он вообще говорил) и сероватый отблеск рассвета высветил половину его лица, оставив другую в тени, Хулия с абсолютной точностью поняла, чем является для этого человека небольшой квадрат, состоящий из шестидесяти четырех белых и черных клеток: полем битвы в миниатюре, на котором разыгрывается великая мистерия жизни, успеха и провала, ужасных скрытых сил, управляющих судьбами людей.
Она узнала обо всем этом меньше чем за минуту. И ей стало ясно также значение той улыбки, которая так никогда и не достигала его губ. И она медленно наклонила голову, потому что была девушкой умной и поняла, а он взглянул на небо и сказал, что очень холодно. Потом она достала пачку сигарет, предложила ему, и он взял, и это был первый и предпоследний раз, когда она видела Муньоса курящим. И они снова зашагали, и шли, и шли, пока не подошли к двери дома Хулии. Было уже решено, что на этом роль шахматиста заканчивается, так что он протянул руку, чтобы попрощаться с девушкой. Но в этот момент она, случайно взглянув на домофон, увидела маленький – размером с визитку – конверт, сложенный пополам и засунутый в решетку напротив кнопки с ее именем. И, когда она открыла его и вынула лежавшую внутри карточку из плотной белой бумаги, ей стало ясно, что Муньосу еще рано исчезать. И что прежде, чем она и Сесар отпустят его, произойдет еще немало событий, которые вряд ли окажутся приятными.
– Мне это не нравится, – сказал Сесар, и Хулия заметила, как дрожат его пальцы, держащие мундштук из слоновой кости. – Мне абсолютно не нравится, что какой-то ненормальный бродит вокруг твоего дома и пытается поиграть с тобой в Фантомаса.
Казалось, слова антиквара послужили сигналом для того, чтобы все часы, находившиеся в его магазине, начали отбивать – какие одновременно, какие друг за другом, на разные голоса, от нежного бормотания до басистых ударов – четыре четверти и девять часов. Но даже это совпадение не вызвало улыбки на губах Хулии. Она смотрела на Лусинду работы Бустелли, неподвижную в своей стеклянной витрине, и ощущала себя такой же хрупкой, как она.
– Мне это тоже не нравится. Но я не уверена, что у нас есть выбор.
Оторвав взгляд от фарфоровой фигурки, она перевела его на стол эпохи Регентства, на котором Муньос уже разложил свои портативные шахматы и снова, в который раз, воспроизвел на доске расположение фигур с картины ван Гюйса.