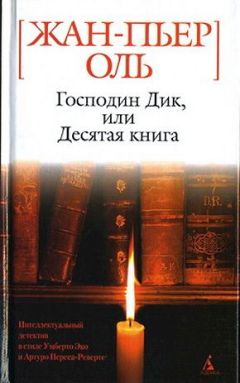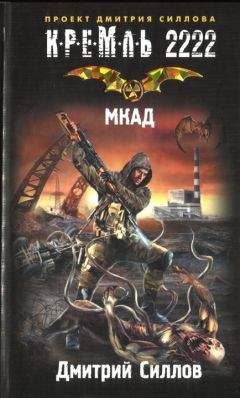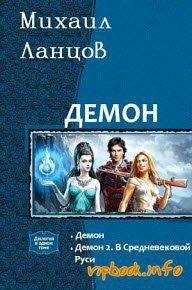Жан-Пьер Оль - Господин Дик, или Десятая книга
— Они несколько недель все решить не могли. Один хотел резать ниже колена, другой — выше. В конце концов я им сказала: «У вас монетка есть, козлы? Ну так бросьте!» Вообще-то я так не сказала: я не сказала «козлы»…
Я больше не употребляю грубых выражений… Мне немножко этого не хватает, что правда, то правда, но в остальном я развлекаюсь… я развлекаюсь охрененно! И не корчи таких рож, кретин! Вылитая твоя мать!
Она накинула простыню, но я по-прежнему видел белый круг ее культи, как бывает, когда долго смотришь на свет и он продолжает гореть под твоими закрытыми веками.
— Поначалу я их хорошо доставала, но это не было забавно… Здесь это обычное дело, старики злы, как паршивые собаки… И вот однажды ночью, во сне, мне пришла идея: я буду изображать милую старушку!.. Я ржала так, что просто уссалась! И я смогла! Я победила, ты понял, они тут все меня обожают!.. Сиделки мне приносят пирожные и тайком — ликер. «Моя маленькая Мелани, у меня нет слов, вы просто ангел…» А про себя думаю: «Сучка драная! Засунь себе этот шоколадный эклер знаешь куда!» В столовой все эти старые кобели хотят сидеть рядом со мной… а один семидесятилетний щенок даже полез ко мне свататься… «Полноте, Морис, шалунишка, даже и не думайте! В наши-то годы…» — «Видите ли, Маргарет, у вас такая милая улыбка!» Да неужели? А знаешь, почему я улыбалась этому мудозвону? Я себе представила, какая это будет брачная ночь… и какой маленький, скукожившийся слизняк болтается в ширинке его пижамы… Каждую неделю меня приходит навестить местный кюре… и протестантский пастор тоже, ты представляешь? Этому я даже сказала, что не верю ни в бога, ни в черта, а он мне: «Это, — говорит, — не страшно, мадам Фуркад, ваша душа столь прекрасна, что вы безусловно можете рассчитывать оказаться среди спасенных!» Ха-ха-ха!
Она долго хохотала, закинув голову; потом вытащила из-под подушки платок и утерла глаза, глядя на меня.
— А ты пожелтел! — подытожила она.
То же самое и я сказал себе утром, глядясь в зеркало после отвратительной ночи с явившимся во сне фармацевтом из Сент-Эмильона. Он был выше и шире в плечах, чем наяву, а его лавочка — мрачнее, и в ней пахло ладаном. На полках, окружавших меня со всех сторон, я видел фляги, наполненные непрозрачными густыми настоями, и фарфоровые флаконы с фантастическими надписями на латыни и изображениями незнакомых животных. Не переставая звонили колокола церкви. И еще был какой-то странный шум на улице — перешептывания, восклицания, — но я не мог ничего увидеть снаружи: витрина была из стекла, в котором я видел только мое собственное отражение. Временами кто-то заставлял очень медленно поворачиваться ручку входной двери, и мое сердце начинало бешено биться, но никто так и не вошел. «Потерпите, она скоро вернется, она непременно вернется», — говорил фармацевт, удаляясь в заднюю комнату. Я был один, но я слышал яростный спор толпы с той стороны витринного стекла. И вдруг предо мною явилась мадемуазель Борель, одетая в блузу фармацевта. Она держала в руках банку; внутри плавал в рассоле какой-то эмбрион. На стекле выпуклыми буквами было написано имя: «Эварист Борель».
«Вот так это всегда и начинается, — пробормотал я во сне. — Я схожу с ума». — «Ничего удивительного, учитывая количество поглощенной тобой бумаги и выпитых чернил. Тебе теперь надо отхаркаться и опорожниться, иначе ты задохнешься».
Чувствуя дурноту, я поднялся, чтобы открыть окно. Неподвижная следила за мной взглядом, пока я обходил кровать. На полочке у кровати стояла наполовину опорожненная бутылка вина, лежали надорванная пачка печенья и старый географический атлас, раскрытый на Соединенных Штатах.
— Твоя жена сказала мне, что ты пытаешься написать книгу, но дело не идет…
— Ты хочешь сказать… что Матильда с тобой разговаривала?
Я выглянул в коридор. Тягучий, назойливый голос комментатора описывал миграции леммингов по всему свету и их финальный суицид в Северном море. Какой-то старик раскашлялся, другой сказал: «Тихо!» Слышались также позвякивание пузырьков и скрип резиновых колес, катящихся по линолеуму.
— А что еще ты хочешь, чтобы она делала по телефону? Показывала мне свой семейный альбом?
— И она тебе… что рассказала?
— Все. Что вы больше друг с другом не разговариваете. Что ты уже несколько месяцев к ней не прикасаешься. Что она несчастна. А ведь она красивая девочка.
— Откуда ты знаешь?
— От Консьянс. Она мне время от времени звонит. Красота не всегда приносит счастье, но когда она уходит, все становится куда хуже, чем раньше.
Я чувствовал себя все хуже и хуже. Я завидовал собственной машине, стоявшей внизу на парковке среди своих сестер и наслаждавшейся сном без сновидений в уютной обезличенности сообщества штамповок и цилиндров. А я был один. И старая женщина, которую я не видел пятнадцать лет, знала о моей жизни больше меня.
— Знаешь, что тебе нужно? Заказ.
— А?
Она смотрела на меня так же, как тогда, когда я читал Диккенса в гостиной мимизанского дома, — с ироническим любопытством туземца, который разглядывает проходящего путешественника и находит, что тот смешно одет.
— Заказ. Как он нужен был моему отцу. Когда у него не было заказов, он подыхал от скуки. Конечно, он мог работать про запас, делать столы, шкафы, а потом пытаться их продать… но так у него не шло. Нужно было, чтобы в мастерскую зашел клиент и сказал ему: «Сделайте мне это, сделайте мне то!..» Вот тогда он был доволен, переставал размышлять и принимался за дело… Это правда, что у вас круглая кровать? — Она сочувственно покачала головой. — Плохи твои дела, дружочек… Да я и не сомневалась, что все это так кончится… Я это знала с того самого момента, как увидела, что ты зарылся носом в эти сраные книжонки, как твой дед-кретин… А теперь тебе стоит убраться отсюда, если не хочешь, чтобы Кристина закатила тебе еще одну сцену… Сроду не угадаешь, чего она у меня попросила! Чтобы я ее удочерила, зассыху! Ты себе представляешь, чтобы я, я кого-нибудь удочерила? Как будто своих детей мало!
Торопясь уйти, я спутал направление, вышел через служебный подъезд в другом конце здания и потом вынужден был идти вдоль него к парковке. И вот что я услышал, проходя под окнами палаты номер 18:
— Алабама?
— Монтгомери.
— Северная Дакота?
— Бисмарк.
— Южная?
— Пирр.
— Мамулечка, вы сегодня просто всезнающая!
У меня перехватило горло. Я испытывал чувство, которое не мог бы определить.
XI
Чарльз Диккенс щурился, словно от попавшего в глаза дыма. А может быть, оттого, что размышлял? И о чем же еще мог он размышлять, как не о «Тайне Эдвина Друда»?
Но время ли теперь размышлять? Не следовало ли ему поразмыслить до того, как он начал эту книгу? До того, как он впутался в эту историю, в эту банальную детективную историю, всю слабость и ограниченность которой он теперь увидел? Окружающие толстые стены Гэдсхилла не могут защитить от его собственных сомнений; окно, распахнутое в сад, открывает глазу лишь бледную, без блеска картину, подчеркнутую этими смешными геранями, один вид которых приводит его теперь в содрогание. Идея, несколько месяцев тому назад казавшаяся такой сильной, такой яркой, превратилась в стадо слов, которые, мыча и оставляя чернильный помет, трусили по становившейся все более узкой дороге анекдота, ведущей в тупик. Отступить он не мог. Но и двигаться вперед — тоже, потому что в конце этой дороги его ждал головокружительный обрыв, провал. Словно пастух на склоне холма, он был обречен смотреть, как его овцы, исходя чернилами, пережевывают до последних корней скудную траву возможного. А та настоящая, великая, единственная книга, которую он хотел написать, тысячью огоньков сверкала, недостижимая, на противоположном склоне лощины.
Так что же? Все, значит, сводится к истории с трупом и убийцей, к подозреньям и поиску преступника? Может ли быть что-то более жалкое, чем тайна, разгадка которой известна? В тысячный раз он тасует в голове элементы этой смехотворной головоломки: Эдвин, жертва, Джаспер, преступник, Ландлес, подозреваемый в совершении… Он вспоминает знаменательные слова Уилки Коллинза: «Чарльз, интрига — вот что тебе нужно! Интрига! У тебя живые персонажи, это бесспорно, но без интриги они бегают туда и сюда бесцельно… как куры! Как безголовые куры». Но разве он не придумал эту интригу? Разве она не пришла, эта идея, вокруг которой все выстроится, эта находка, от которой слова заблестят, как медь от суконки?
Он был уже не очень в этом уверен. И теперь он отчаянно искал средство дотянуть тайну до конца, поднять «Друда», этот бледный детективный роман, на уровень Шекспира и Данте. Разумеется, ему было бы легче размышлять, гуляя среди пластиковых дубов по зеленому фетру лужаек этого макета. Но он не мог подняться, потому что был свинцовым. И он не пошевелился, когда гигантские пальцы приблизились, чтобы схватить его.