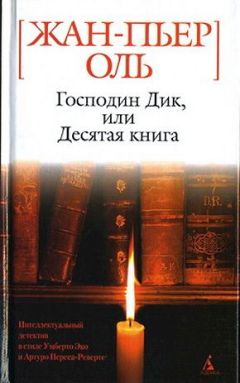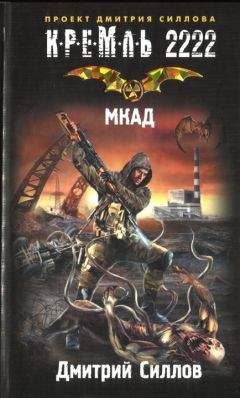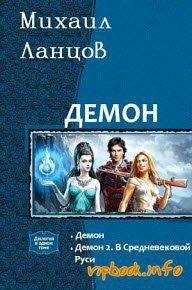Жан-Пьер Оль - Господин Дик, или Десятая книга
— Нет.
Больше мне ничего не удалось из нее вытянуть. Поднимаясь на чердак, я попытался припомнить, когда мы последний раз по-настоящему разговаривали. И, к огромному своему удивлению, понял, что это было много недель назад, а потом я слышал от нее уже только «доброе утро» и «добрый вечер». Я вдруг понял, как изменилась Матильда за последние несколько месяцев. Она похудела, она постоянно выглядела утомленной, даже утром после сна. Она одевалась как попало, она не обращала внимания на свою внешность. От пышной копны огненных волос, которой она раньше так гордилась, осталось лишь воспоминание: теперь какие-то тусклые лохмы падали на ее усталые глаза и прилипали к щекам, влажным от пота… или от слез? Проводя в бесплодных усилиях долгие часы над чистым листом бумаги, я не замечал этих тревожных симптомов. И вот именно в тот день, когда я смутно нащупал решение всех своих проблем, ее состояние резко ухудшилось. Уже взявшись за ручку двери, я остановился, раздумывая, не спуститься ли вниз, чтобы выяснить, что там с ней происходит. Но мне не терпелось воплотить мою новую идею. Меня ждала работа. Остальное — потом.
Я направился к полкам библиотечки. Мое внимание тут же попытались привлечь книги в первом ряду — книги Диккенса; как примерные ученики, они поднимали руку, стремясь заслужить похвалу учителя. Но я уже решил не замечать их. Я зарылся в глубины полок, в те глухие углы, где бездельники, прижавшись к батарее, прячутся от твоего взгляда и весь урок играют в «мандавошку». Счастье улыбнулось мне неожиданно скоро:
«Жара достигала тридцати трех градусов, и бульвар Бурдон был совершенно безлюден».
«Бувар и Пекюше» с комментариями Тибоде в «Библиотеке Плеяды». И, забыв о Матильде, не слыша настойчивого звонка телефона, отвыкший от таких счастливых часов, я погрузился в чтение. После стольких лет витания над водами Темзы, где меня окружали fog[28] и викторианский гул, названия улиц Парижа казались мне восхитительно уютными, а имена персонажей — Бувар, Пекюше, Барберу, Дюмушель — доставляли то чуточку трусливое облегчение, какое испытывает путешественник, когда после долгого кругосветного странствия видит в конце дороги колокольню своей родной деревни.
Вниз я спускаюсь только в час дня. Сквозь стеклянную дверь гостиной я вижу ничего не выражающее лицо Матильды, обращенное ко мне; ее губы медленно шевелятся. В момент, когда я вхожу, она умолкает, я успеваю поймать на лету конец ее последней фразы:
— …сегодня до шести вечера.
— Звонил кто-то? Что мне надо сделать до шести вечера?
Я испробовал нежность, просьбы, угрозы — не помогло ничего. Казалось, Матильда, повторив порученное, считала свой долг исполненным; то, что меня при этом не было и я не мог ничего услышать, ее, похоже, не волновало. Покончив с делом, она погрузилась в созерцание какого-то американского сериала. Несколько минут я наблюдал за появлением и исчезновением этих неправдоподобных персонажей. Безукоризненно наглаженный муж целует в лоб жену, перед тем как сесть в машину. Жена остановилась в дверях на пороге; жест «бай-бай». Ее приличествующая случаю улыбка, застывающая по мере того, как его «кадиллак» заворачивает за угол. Торопливые шаги к телефону, дрожащая рука, набирающая номер. «Алло? Это ты, Дэнни? Дорога свободна! Он уехал по делам на три дня! Я жду тебя, дорогой…» Подавленный, я вспоминаю не столь уж далекие времена, когда Матильда приносила из библиотеки «Время невинности» и «Миссис Дэллоуэй», а в среду вечером шла в киноклуб смотреть «Восемь с половиной».
После обеда мне не удалось по-настоящему сосредоточиться на продолжении «Бувара». Случившееся не выходило у меня из головы. И когда ровно в восемнадцать ноль-ноль раздался звонок, я бросился к телефону, чтобы успеть снять трубку раньше Матильды.
Звонила моя директриса. Я забыл заполнить журнал класса, в котором был классным руководителем.
— Это, господин Домаль, переходит уже всякие границы! У меня складывается впечатление, что я работаю с каким-то призраком! Кстати, ваши коллеги уже прозвали вас Бельфегором![29] Вас никогда нет на месте, когда вы нужны, у вас нет никакого авторитета, никакого влияния, вы жметесь к стеночке, и ученики смеются над вами! Я даю вам один час на заполнение этого журнала, или вам придется поискать другое учебное заведение! Найдется достаточно много ответственных людей, способных выполнить вашу работу, — да, месье, даже в Мимизане!
Матильда, кажется, уже час сидела не шевелясь. Не сказав ни слова, я накинул плащ и вышел под дождь.
Мой дом снова стал мне враждебен. Моя терпеливая работа по приручению мебели пропала втуне. Всякий раз, когда я видел, что губы Матильды шевелятся, я бросался к ней, опрокидывая все преграды, оказывавшиеся на пути, разбивая вазы и обрывая провода, чтобы только не пропустить нескольких драгоценных слов — нескольких скупых слов, которые слетали с ее губ и тут же застывали, подобно капелькам воска, скатившимся с погасшей свечи. Я не мог забыть тот мучительный эпизод с незаполненным журналом, — уже одно то, что она отказалась тогда повторить, делало каждое слово Матильды неестественно значительным для меня. Я просто не мог себе позволить пропустить хоть одно из них, потому что боялся не услышать сообщения о какой-нибудь катастрофе: начавшемся в саду пожаре, запахе газа на кухне или штормовом предупреждении по радио. Я в буквальном смысле смотрел ей в рот. Я жил уже не с женщиной, а с какой-то депрессивной пифией; ее приводящий в отчаяние лаконизм действовал мне на нервы и играл моей жизнью. А бросался к ней я почти всегда напрасно: она просто зевала.
Из тюрьмы чердак превратился в убежище, но мой флоберовский проект не подвигался. Энтузиазм первых мгновений схлынул, и сменившее его ощущение дежа-вю перечеркивало мое открытие «Бувара…». Так, заблудившись в лабиринте и думая, что нашел какой-то неиспробованный путь, вдруг замечаешь на земле следы своих собственных подошв, а на стене — зацепившуюся за неровность нитку из твоей куртки: ты здесь уже проходил.
В книгу постепенно прокрадывались чуждые элементы: помпезная госпожа Борден неотразимо напоминала мне почтенную матрону из «Николаса Никльби». Тупой господин де Фаварж воскрешал в памяти Подснепа из «Нашего общего друга». А сами Бувар и Пекюше, эти горожане, которые вдруг услышали зов пустой проселочной дороги, эти двое невежд, неожиданно заслушавшиеся сирен науки, — не были ли они дальними родственниками и наследниками членов Пиквикского клуба? Изгнанный в дверь, Диккенс возвращался в окно. К тому же…
К тому же из всех неоконченных литературных произведений «Бувар…» считался одним из самых знаменитых, совершенно так же, как… «Друд»! И когда после нескольких недель бесплодных усилий я наконец осознал эту очевидную параллель, меня охватила какая-то чудовищная усталость.
В тот вечер, тоскливо перелистывая моего Флобера, я уперся взглядом в этот пассаж: «Наконец, они решили сочинить пьесу. Трудную сторону составлял сюжет. Они его изобретали за завтраком и пили кофе — напиток, необходимый для творчества, — затем пропускали две-три рюмочки. Ложились в постель соснуть, после чего спускались во фруктовый сад, гуляли там, наконец выходили за ворота, чтобы обрести вдохновение в полях, блуждали рядом и возвращались измученные. Или же они запирались на ключ. Бувар разгружал стол, клал перед собой бумагу, обмакивал перо и замирал, уставившись глазами в потолок, между тем как Пекюше размышлял в кресле, вытянув ноги и поникнув головой. Иногда они чувствовали трепет и как бы дуновение идеи; уже готовились ее схватить, но она ускользала».
А снаружи надрывался экскаватор, буксуя на опилках. Это было уже слишком. Я откинулся на спинку рабочего кресла и разразился громким хохотом душевнобольного. Потом выключил пишущую машинку, вышел из комнатки, обещая себе, что больше в нее уже не вернусь, и запер за собой дверь.
Я тихо вошел в спальню. Матильда не закрыла ставни, но была уже глубокая ночь, и в свете фабричных огней я мог различить только какую-то удлиненную форму посередине кровати. Невозможно было понять, спит она или нет. Услышит она мои слова? Пятьдесят на пятьдесят. Это облегчало дело.
— Я устал, Матильда. Очень устал.
Я сел на край кровати. Она лежала на животе, одетая, голова — в подушке, руки вытянуты вдоль тела. В полутьме наши силуэты резко выделялись на белой простыне: диаметр и касательная. Полумертвая и полуживой.
— Я солгал тебе. Я никогда не напишу книгу. Ни о Диккенсе и ни о ком… Все это — какой-то пошлый фарс… Я думал, что женюсь на пожирательнице мужчин, а получил в наследство мелкобуржуазную неврастеничку… А ты, ты хотела Рембо, а имеешь Топаза…[30] Вот, и теперь мне легче, я освободился… Ты спишь?