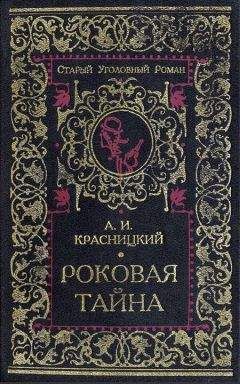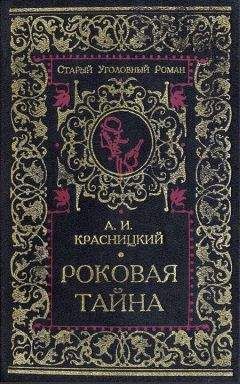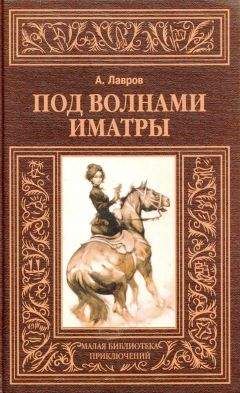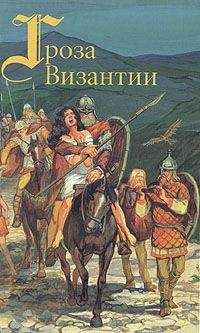Майкл Грегорио - Критика криминального разума
— Иностранцы, находящиеся в Кенигсберге, сударь, — произнес он с поклоном, протягивая мне копию списка, составленного для генерала Катовице.
Я взял у него бумагу и просмотрел имена.
— Двадцать семь человек? Во всем Кенигсберге?
— В последнее время сюда приезжает не так уж много иностранцев, сударь, — ответил офицер. — Конечно, в порту много парусных судов, но они, как правило, проводят там не больше суток, и члены команды в основном спят на борту. Путешественники стараются объехать город стороной. Ни один разумный человек не хочет стать жертвой убийцы.
— Значатся ли какие-либо из этих имен в списках полиции?
— Нет, сударь. Я сам проверял.
Я обратил внимание на то, что в списке были имена трех ювелиров, которых я встретил вечером накануне в «Балтийском китобое».
— Вы обыскали гостиницу?
— Конечно, сударь, — ответил он и положил на стол передо мной большую связку бумаг. — Вот образцы тех материалов, которые мы обнаружили там.
— Где они были спрятаны?
— В потайной комнате, герр поверенный. В одной из спален на верхнем этаже под ковром находился люк, который и вел туда.
У меня в памяти всплыл образ подсматривающего Морика. Возможно, именно эту информацию он хотел сообщить мне прошлым вечером? Что в комнате напротив моего окна проходит сборище мятежников.
— Бумаги и карты, сударь, — продолжал Штадтсхен.
— Карты?
— Кенигсберга, сударь, и других мест. Брошюры на французском. Имя Бонапарта постоянно встречается в тексте.
— Вы нашли какое-нибудь оружие?
— Нет, сударь, — ответил Штадтсхен с широкой улыбкой, — за исключением старого пистолета в спальне Тотцев. Он ржавый, словно потерянный якорь, и может взорваться при выстреле.
— Сколько человек вы арестовали?
— Только хозяина и его жену. Купцы, которыми вы, по словам сержанта Коха, заинтересовались, сегодня рано утром покинули город. Скорее всего морем. Жандармы сейчас пытаются установить, в каком направлении они отплыли.
— Тотц и его жена говорили что-нибудь во время ареста?
— Признаться, я не обратил особого внимания, сударь, — ответил Штадтсхен. — У меня хватало дел поважнее.
— Что вы имеете в виду?
— Знаете, сударь, — Штадтсхен провел рукой по губам, — ребятам сейчас очень тяжело. С тех пор как начались все эти убийства, мне было трудновато удерживать их. Они ведь могли взять правосудие в собственные руки. Вы понимаете, что я хочу сказать?
— Хорошо, — прервал я его, — мы можем начать.
Штадтсхен вытянулся по стойке «смирно».
— Прежде всего, сударь, генерал Катовице желает, чтобы заключенных из части «Д» отделили от остальных.
— Части «Д»? — переспросил я.
— Депортируемых, сударь. Генерал хочет перевести их в порт Пиллау, сударь. Чтобы они были готовы к немедленной погрузке. Если действительно обнаружится французский заговор, тюрьма начнет заполняться политическими подстрекателями и террористами. Кенигсбергская крепость может превратиться в прусский эквивалент Бастилии, сударь. Именно так это и определил генерал. Вчера шестьдесят депортируемых отплыли из тюрьмы Швайнемунде на борту судна «Царь Петр». Завтра он будет в Пиллау, сударь. Поверенный Рункен составил предварительный список, — Штадтсхен сделал глубокий вдох и опустил глаза, — но подписать его и поставить на нем печать он уже не успел.
Офицер протянул мне документ на тяжелом пергаменте. Я хорошо помнил королевский указ, упоминавшийся в заголовке. Одну из копий оригинала я получил за несколько месяцев до того у себя в Лотингене. В Пруссии воцарился ужас перед якобинской революцией. Всем начальникам тюрем давался приказ составить список «лиц, представляющих опасность для безопасности государства, использующих любые преступные средства для побега из заключения, оказывающих сопротивление тюремным властям и не проявляющих признаков искреннего раскаяния в содеянном и стремления к исправлению».
— Поверенный Рункен выбрал шесть имен для депортации, сударь. Генерал Катовице добавил еще два. Он просит, чтобы вы довели процедуру оформления до конца.
Я быстро пробежал глазами список на пергаменте.
Геден Враевский, 30 лет, дезертир.
Матиас Людвигсен, 46 лет, фальшивомонетчик.
Якоб Штегельман, 31 год, дурные наклонности, 53 ареста за пьянство и дебоши.
Гельмут Шуппе, 38 лет…
— Боже мой! — воскликнул я с ужасом, прочитав предъявляемые последнему обвинения. — Таких людей даже сибирские волки испугаются.
— Да уж это точно, сударь, — откликнулся Штадтсхен с мрачной улыбкой. — Народец еще тот.
Андреас Конрад Зегендорф, убийства и похищения людей.
Франц Хубтисснер, 43 года, воровство скота.
Антон Либерковский, 31 год, убил своего брата топором…
У меня учащенно забилось сердце. Сколько лет каторжного труда, порки, морозов и штормовых ветров понадобится, чтобы наказать такого Каина по заслугам?
— Если вы хотите внести Тотца и его жену в список, сударь, — добавил Штадтсхен, — я могу сразу же перевести их в отделение «Д».
Я обмакнул перо в чернильницу и подвел черту под последним именем. Ставя подпись, я задавался вопросом, сколько дополнительных дней жизни мое решение даст убийце, Ульриху Тотцу и его сообщникам в убийстве. Заключенные, приговоренные к каторжным работам в России, вряд ли протянут больше двух-трех месяцев.
— Прежде чем решить, что делать с ними, я должен закончить расследование. Впрочем, хочу сказать, вы превосходно справились с заданием, — добавил я и протянул ему документ. Он залился краской от гордости. Штадтсхен добился моей благосклонности, и у него, как он полагал, появилась надежда быстрее продвинуться по служебной лестнице. — А теперь приведите сюда Герду Тотц.
Мне не терпелось начать допрос. Знала ли хозяйка гостиницы о судьбе Морика уже утром, когда пыталась разыграть передо мной обеспокоенность его поведением? Как она будет улыбаться теперь, когда Морик мертв и ей грозит обвинение в убийстве?
Через несколько минут арестованную ввели в комнату.
— Проходите, фрау Тотц, — сказал я, намеренно не глядя на нее и листая бумаги, оставленные Штадтсхеном на столе, — листовки, предназначенные для разжигания политического недовольства. В них имя Бонапарта перемежалось популярными словечками, слышанными мною во Франции: Свобода, Равенство, Братство, — а также призывами к варварскому насилию. — Ну, а теперь давайте…
Я поднял глаза. От увиденного слова застыли у меня на языке. С женщиной обращались гораздо более жестоко, чем я мог предположить. Распухшее и отекшее лицо ее было покрыто синяками, а нижняя губа была рассечена и кровоточила. Тем не менее ей удалось изобразить на физиономии некое уродливое подобие той сладкой улыбки, которой она встретила меня сегодня утром.
— Герр поверенный? — произнесла она, услужливо сжав руки на груди, словно ожидая от меня приказания принести обед.
— Садитесь, — пробормотал я, стараясь не встречаться с ней взглядом.
Штадтсхен тяжело опустил руку ей на плечо и усадил ее с такой силой, что под ней истошно заскрипел стул. Я уже хотел было сделать ему замечание, но воспоминание о раздробленном черепе Морика, о глазе, повисшем у уголка рта, остановило меня.
— Ну, Герда Тотц, что вы можете сказать в свое оправдание?
Она взглянула на меня с жалкой и уродливой гримасой предельной озабоченности.
— Герр Стиффениис, умоляю простить меня, — пробормотала она, сжав кулаки и пытаясь ими скрыть слезы. — Нашу гостиницу закрыли, сударь. Что же вы теперь будете делать? Где будете жить?
— Это вас меньше всего касается, — ответил я. — Сегодня утром вы сообщили мне, что ищете Морика. Вы знали, что он мертв?
— О, герр Стиффениис! Что вы такое говорите, сударь? Я чуть с ума не сошла от беспокойства. Он ведь был таким шалопаем. Я думала, он и вам досаждает…
— С какой стати ему мне досаждать? — прервал я ее.
— Он знал, что вы судья. Он…
— Поэтому-то его и убили?
— Что вы такое говорите, сударь? — пробормотала она. — Разве я без причины волновалась, сударь?
— В вашем доме происходило нечто весьма загадочное, — продолжал я. — Морику удалось обнаружить тайный заговор. Ему было известно, что убийства в Кенигсберге планировались и осуществлялись вами, вашим мужем и некоторыми другими постояльцами вашей гостиницы.
Как ни странно, она не стала напрямую возражать на мое обвинение.
— Вам это Морик сказал, сударь? — спросила фрау Тотц. Она соединила руки в детском жесте мольбы и наклонилась к моему столу, пытаясь стряхнуть удерживавшую ее руку Штадтсхена. Кровь из рассеченной нижней губы продолжала течь по подбородку и шее. — Недаром мой Ульрих боялся, что нечто подобное случится. Он заметил, как Морик сновал рядом с вами вчера вечером. Да я и сама видела. И я его предупреждала. Да я и вас предупреждала, сударь, ведь так?