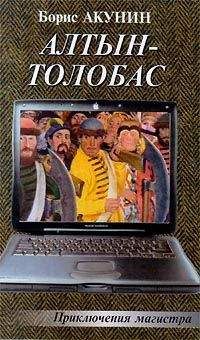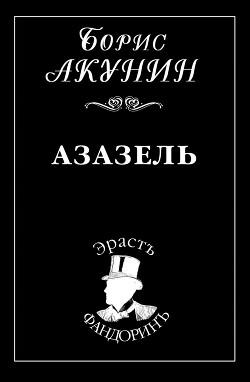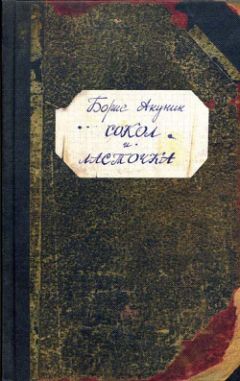Алтын-Толобас - Акунин Борис "Чхартишвили Григорий Шалвович"
Для видимости устроили смотрины, по старинному чину: свезли во дворец девок из хороших родов, разложили по трое в постели – чтоб лежали смирно, будто спят, и глаз на государя раскрывать не смели. Алексей Михайлович для виду походил по смотринным опочивальням, посмотрел на сих якобы спящих красавиц и выбрал средь них не кого-нибудь, а матфеевскую воспитанницу она уж знала, что выберет, и лежала без трепета, подсматривала сквозь густые ресницы.
После женитьбы царь на четвергах бывать перестал, но и без него журфиксы своего соблазна не утратили – только стали живей, свободней, да и веселее. Здесь угощали изысканно, без московского обжорства, поили не допьяну, как в Кремле, а умеренно, французскими, германскими и итальянскими винами. Посуду с каждой переменой блюд подавали новую, не валили в ту же тарелку. В царском-то дворце иную миску раз в год помоют, и то много, а здесь хоть смотрись в нее, будто в зеркало – сверкает вся. У каждого прибора (не только ложку подавали, но еще и вилку, а к мясу нож) клали льняную салфетку – чтоб руки вытирать изящным манером, не о платье и не о волосы. На царском приеме Корнелиус раз видел, как камергер Микишка Соковнин, нагнувшись, тайно высморкался в парчовую царскую скатерть, за что бдительным церемониймейстером Михайлой Щербатовым был немедля выгнан с бранью и затрещинами. У Артамона Сергеевича подобную варварскую сцену и представить себе было невозможно.
Здесь разговаривали прилично, без крика. Не бахвалились дедовством, срамных речей не вели, старыми обидами не считались. Беседовали о философии и политике, о европейских и турецких новостях, с женщинами – про обыкновения версальского и сентджемского дворов.
Артамон Сергеевич был уже совсем старик, лет пятидесяти, а его супруга Евдокия Григорьевна из детородной поры еще не вышла, приносила мужу приплод чуть не каждый год. Правда, из-за злого московского климата дети долго не жили, умирали в младенчестве – вот и сейчас, при Корнелиусе, хозяйка ходила в черном по годовалому сыночку, преставившемуся на Покров. Но двух чад Господь Матфеевым все же сохранил, смилостивился – сына и дочь.
Маленький Андрей Артамонович в свои десять лет был уже царевым стольником, знал не только грамоте, но еще по-французски, по-немецки, по-английски. На четверговых сидениях читал латинские вирши, и гости ему прилично, на западный манер, хлопали в ладоши. Видно было, что из мальчугана выйдет прок.
Однако куда больше Корнелиуса занимала канцлерова дочь, Александра Артамоновна, по-домашнему Саша. Хрупкая, беленькая, с круглим лицом и тонким вздернутым носом, с продолговатыми серыми глазами, она представлялась фон Дорну залетной птицей, угодившей в варварскую Московию по прихоти недоброго ветра: подхватил нежную птаху, занес ее за тридевять земель, да и бросил посреди чуждой, дикой чащи. Таких утонченных барышень Корнелиус видел в Гамбурге, Амстердаме и Париже, а в Москве встретить не чаял, отчего Александра Артамоновна показалась ему вдвойне, втройне прекрасней.
Щек она, вопреки туземному обычаю, не румянила, бровей не сурьмила, но все равно (а может, наоборот, именно из-за этого) была чудо как свежа и приятна взору. Однажды вышла к гостям во французском платье, с корсажем и открытыми, ослепительными плечами – так мужчины все умолкли, глазами захлопали, а Корнелиус, раскуривавший трубку, от сердечного сотрясения весь табак просыпал.
После, ночью, долго ходил взад-вперед по своей горнице и, чтоб утешиться, вспоминал прежние любовные победы. Сашенька, Александра Артамоновна для капитана фон Дорна была досягаема не более, чем сияющая в небе звезда. Помыслить, и то страшно.
Все же на следующее утро, дожидаясь, пока Артамон Сергеевич выйдет из кабинета (боярин составлял памятную записку для украинского гетмана и, видно, засел надолго), Корнелиус предпринял диверсию – ни для чего такого, просто невыносимо показалось, что Сашенька его вовсе не замечает, смотрит сквозь, а если случайно встретится взглядом и улыбнется, то рассеянно, без смысла, будто псу дворовому, что хвостом повилял.
Сидел в главной гостевой зале, куда сходились переходы из всех покоев и где непременно рано или поздно должна была появиться боярышня – может, из светелки во двор пройдет, или к матушке, или в библиотеку, или еще куда.
Капитан прицепил свой лучший кружевной воротник, в ухо вдел золотую серьгу, вороной парик собственноручно расчесал попышней, пустил двумя волнами по плечам. На соседнем стуле лежала шляпа со страусиными перьями, черным и белым. Под тульей был спрятан заветный будильник.
Накануне Корнелиус проверил, работает ли механизм. Слава богу, работал – гамбургские мастера свое дело знали. Сокрытые внутри колокольчики в нужный миг начинали серебристо отщелкивать веселую песенку «Здравствуй, новый Божий день» – чтоб человек просыпался в добром расположении духа, с улыбкой на устах.
Дождался. По наследственному фондорновскому везению, Александра Артамоновна была одна.
В руке держала малую грифельную доску и счеты с костяшками, на каких купцы считают – не иначе, шла к Андрею Артамоновичу, учиться вместе с братом арифметике (и зачем только высокородной девице эта низкая наука?).
Корнелиус не поворачиваясь – словно и не видит – нажал под шляпой рычажок боя и сразу руку отнял, на колено положил. Сам сидит, искоса по отражению в зеркале за Сашенькой следит.
Та шла себе, стуча каблучками по дубовому паркету, да вдруг замерла: откуда ни возьмись полились волшебные переливчатые звуки – приглушенно, как бы из-под земли или, наоборот, из надземных сфер. А фон Дорн сидит, вроде и не слышит ничего, только мизинец руки, положенной на эфес, оттопырил, чтоб луч на перстне поиграл.
– Капитан… Как тебя… Корней! – шепотом позвала Сашенька.
Здесь Корнелиус, конечно, вскочил, повернулся, поклонился самым учтивым образом – париком чуть не до пола.
– Да, ваше сияние? (Так перевел на русский Durchlaucht [11]).
– Слышишь? – боярышня боязливо подняла розовый пальчик, ресницы так и затрепетали. – Слышишь?
Фон Дорн наморщил лоб, словно бы прислушиваясь. Недоумевающе развел руками.
– Лошадь кричит? Это Зюлейка, гнедой кобыл Иван Артамонович. У нее будет дитя.
– Да не кобыла! – досадливо махнула Сашенька. – Вот, вот! Музыка райская!
Взгляд, обращенный на Корнелиуса, был одновременно испуганным и в то же время исполненным надежды на чудо.
Капитан проговорил заученную фразу – красивую и без единой ошибки:
– Я человек простой и грешный, мне не дано слышать райскую музыку. Это могут только небесные создания.
И снова поклонился – почтительно, без дерзкой галантности.
Боярышня, наклонив головку, послушала бой еще немножко, потом вдруг быстро подбежала к стулу и сдернула шляпу.
– Это что? Табакерка с музыкой? Да ты, Корней, шутник!
Схватила будильник и звонко, не хуже серебряных колокольчиков, рассмеялась.
– Какой красивый! А зачем цифры? И небесные знаки?
Корнелиус смиренно объяснил про устройство будильника и с поклоном сказал:
– Позволте, ваше сияние, подарить вам этот скромный подарок.
Сказал – и сердце стиснулось, все-таки жалко было отцовского будильника.
Но устроилось всё лучше некуда. Будильник Александра Артамоновна в дар не приняла, на шутку не рассердилась и с того дня стала фон Дорна отличать. Улыбалась уже со смыслом, как другу. Если ехала кататься в санном возке, велела скакать следом. А один раз, на прогулке в Сокольниках, попросила обучить пальбе из пистоли. Когда боярышня двумя ручками взяла рукоять, а Корнелиус стал наводить дуло, ее разрумянившаяся от холода щека оказалась совсем близко, и от этого с капитаном приключился немыслимый конфуз – промазал с десяти шагов по толстому стволу. Сама же Сашенька его и утешала.
Человек не властен над своими фантазиями. И стали фон Дорну грезиться видения одно несбыточней другого. Мечтать ведь никому не возбраняется.
Скажем, загорелся чудесный каменный дворец, со всех сторон пламя, холопы от жара разбежались. Корнелиус вбегает в окутанную дымом светелку, подхватывает ослабевшую Сашеньку на руки, выносит наружу, и она в благодарность целует его в опаленные усы. Ради такого впору было самому палаты запалить. В Москве что ни день где-то горит, никто и не удивится…