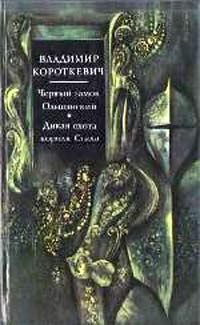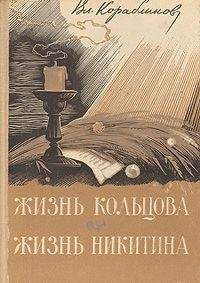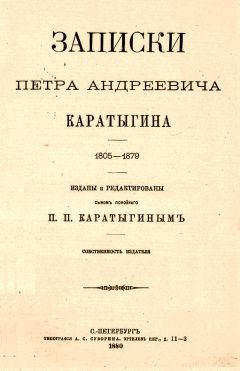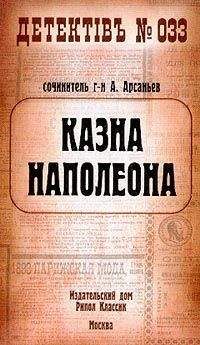Владимир КОРОТКЕВИЧ - Черный замок Ольшанский
…Когда слезли с грузовика, в микроскопическом станционном поселке уже замигали первые огни. Высоцкий с Гончаренком побежали по своим делам (уговорено было на позднее время), а Шаблыка, у которого в Езно были приятели, прежде чем идти к ним ночевать, чтобы завтра с утра приняться за дела, покуривая со мной на перроне, смотрел вдаль, за далекий огонек светофора.
– Почему это так, Антось, что в юности к поезду гулять ходили, будто на бал? Какая-то иная жизнь рядом пролетала… Не наша… Может, красивее, а может, и такая, что собаке не пожелаешь. А теперь не тянет. Сидел бы и сидел на своем месте.
– Мхом обрастаем, Рыгор. Стареем.
– Видимо, да… Так что ты там, Антосю, говорил про головоломку?
Я в самых общих чертах рассказал ему обо всем, не упоминая, конечно, ни о судьбе Марьяна, ни о книге, ни о содержании написанного, ни о всей катавасии, которая вдруг поднялась вокруг легенды трехсотлетней давности.
Шаблыка задумался.
– Что-то во всем этом есть, – наконец сказал он. – Но все равно ничего не получится. Ты не знаешь толщины и длины палки.
– Ну, «начатки», как сказал бессмертный Якуб Колас, и мы знаем, – ответил я. – В смысле – математики.
– Ты что, ты близок к разгадке?
– Достаточно близок.
– Тогда молчи ты, мужик, и никому – ни-ни. Чтобы и искры из тебя нечем было выбить. Дело какое-то… паскудное. Бесчеловечное какое-то дело.
– Что же, Антон Глебович, – изрек, подходя, Высоцкий, – придется вам, желаете вы того или нет, ехать со мной до следующей станции.
– Почему? – удивился Шаблыка.
– А, черт бы его побрал, кладовщика… Договаривались ведь, так нет, куда-то поволокся в соседнюю деревню. То ли свадьба там, то ли похороны.
– Так что вы решили? – спросил я.
– Гончаренок здесь остался, а я к его родне идти не захотел. Поеду до Польной. Там у меня друг, у него переночую, а первым утренним – сюда.
Огненным змеем из чужого мира подошел поезд. Промелькнули в вагоне-ресторане слишком вдохновенные лица мужчин и слишком красивые – женщин. Некоторые были с бокалами в руках. И все смотрели на этот освещенный клочок земли, перед которым долгое время была тьма с редкими огнями посреди полей и после которого, они знали это, снова за окнами будет мрак.
– Эй, туземцы! – заорал какой-то «пижамный» с подножки. – Здесь в буфете пива нету? В вагоне кончилось!
И тут я удивился выражению жестокой неублажимой ненависти на лице Высоцкого. Таком обычно добродушном лице.
– Таким, как ты, нету, пес приблудный, – процедил он. – И вообще, кати, – это уже вслух, – тебе люру[62] глотать. Или г…
Жизнерадостный «варяг» живо убрался в вагон, как улитка в свою раковину. Может, и сцепился бы с Высоцким, но увидел – стоят втроем. Хотя я и Шаблыка были тут ни при чем. Ни сном, как говорится, ни духом.
…Когда мы сели в почти пустой вагон и совсем пустое его отделение, я спросил у Высоцкого:
– Зачем вы его так?
– Вот, – все еще возмущенно сопя, сказал он, – ты тут трясись черт знает куда, возвращайся на рассвете обратно, а он – «туземец». А сколько ж здесь померзнуто, помокнуто, постреляно сколько, побито…
– Вы правы, – сказал я. – Я тоже однажды ехал. Ноябрь. Слякоть. Сумерки. Пейзажи, по обе стороны дороги, сами знаете, после немцев какие. Ну, стоим, курим в тамбуре. И тут какой-то тип смотрит на туман и дождь и говорит: «Правильно немцы эту страну „шайзеланд“ называли». Я тут не сдержался. «Если тебе жена со мной или с кем другим рога наставила, так не кричи о своем позоре. Если слабак, то такую землю не хули. А если ты сию минуту не сделаешь, как говорят твои любимые нацисты «Halt den Maul»[63], то я сейчас открою дверь и тебя на полном ходу под откос вышвырну…» Он почему-то заткнулся. Юркнул в свое купе.
Мое лицо, по-видимому, даже при одном воспоминании сделалось страшным, потому что Высоцкий смотрел на меня слишком пристально. А я вдруг устыдился и воспоминания, и того, как я тогда разволновался.
Поезд колотило на стыках. Высоцкий отвел глаза, тоже взволнованный.
– А почему вы здесь возчиком? – спросил я. – У вас ведь какое-то образование есть. Судя по речи и по манерам.
– Ну, если все Ольшаны знают по сплетням и все равно вам расскажут, то лучше узнайте от меня.
– Верно. Сплетни в таких местечках до страшного суда доживут.
– Образование, ясно, так себе. Четыре класса польской гимназии. Вышибли за участие в патриотическом кружке. А потом – война.
– Так подучились бы на каких-нибудь бухгалтерских или агрономических курсах.
– Нет. Все-таки и тот и другой – фигуры на селе. А я этими сложностями по уши сыт. Троюродного брата поляки повесили перед самым сентябрем[64].
– За что?
– А господь его знает. Я с ним почти незнаком был. Будто бы убил провокатора, а те повернули дело так, что убийство уголовное. Ну и ясно, может, кто и защищал, а широкая общественность – нет… Второй, двоюродный, расстрелян немцами за подполье прямо на улице. Кто говорит в Кладно, кто говорит, что вывезли в Белосток. Так что видите, нашему брату куда ни кинься… Лучше уж я здесь. Спрос, как говорится, невелик, ответственности никакой. Тихо – и гори оно все ясным огнем.
Глава XIII
Совещание двух холостяков, одного вдовца и одного женатого
Утром я позвонил в Кладно Максиму Смыцкому, одному из лучших, если не лучшему, знатоку города и истории его и окрестностей. И, к счастью, застал дома.
– Слушай, Максим, ты историю с Ольшанским замком слыхал?
– Друже, ты меня за ребенка считаешь. Скоро посадишь за парту и заставишь учить…
– Что?
– Ну, «сам сабе катлету смажыў i запэцкаўся ў сажу»[65] или «У Мани верный был баран, собаки он верней. Куда бы Маня ни пошла – баран бежит за ней».
– Угм. Ты еще вспомни «Anna und Marta baden»[66]. Замок в Ольшанах разрушать хотели…
– Кто?.. Ах, сек твою век!.. Кто?!
– Этого сказать не могу… Слово дал. Обещали не растаскивать. Так вот ты, как «охрана памятников культуры», помни об этом и при случае постращай. Доску новую повесьте.
– Ах, черт! Еще легенда такая красивая связана с ним. Холера ясна.
– Возможно, она имеет под собой какую-то почву.
– Какую?
– А ты про бунт Валюжинича слыхал? И про послание бискупа Кладненского?
– В лесу родилась елочка.
Он был очень похож на Марьяна. Юмор у всех нас почти одинаковый: юмор эпохи и ее манера шутить. И все же он был не то, не то… Хотя и энциклопедия на двух ногах.
И тут мне тюкнуло в голову:
– Максим, что ты знаешь о расстрелянных в последний день немцами в Кладно?
– Есть такой памятник. Вернее, стела. Только здесь их будто бы половину расстреляли. Часть дальше, под Белостоком. И неизвестно, кого где. Расстрелянные были поляки и белорусы. Во всяком случае, и здесь и там адекватные и двуязычные стелы.
– Текст помнишь?
– Помню, но лучше, для верности, посмотрю по картотеке.
Минутная пауза.
– Есть, слушай, – и дальше текст:
Tu spoczywają zwłoki
22 bojowników Ruchu
Oporu, zamordowanych
przez hitlerowców
w dniu 17.VII.1944 r.
И далее перечень фамилий:
A.Oblocki z Krakowa.
Р.Romski…
Еще фамилии, и потом, как последнее подтверждение:
J.Stankiewicz z Olszan.
W.Wysocki z Kladna
oraz 17 osob nieznanych.
Cześć ich pamięci.
И ниже по-белорусски:
Тут спачываюцъ астанкi
22 байцоў Руху Супрацiўлення,
замардаваных гiтлераўцамi
у дзень 17.VII.1944 г.
. . . . . . . .
А.Аблоцкi. з Кракава.
П.Ромскi…
. . . . . . . .
I.Станкевiч з Альшан.
В.Высоцкi з Кладна
А таксама
семнаццаць чалавек невядомых.
Вечная слава памяцi герояў[67].
– Спасибо, Максим. До встречи. – Я повесил трубку.
Почему мне пришло в голову спросить об этом? В истории этой все было загадкой, и потому приходилось присматриваться ко всем. Что означал человек под окнами? Случай в музее? Усыпление собак? Убийство (да, я подсознательно знал, что это было убийство, и даже желал этого, в противном случае это была бы слишком глупая смерть)? Записка, написанная моей рукой? Странные и диковатые люди в Ольшанке (а я умудрился проверить: никто из них уже два месяца не был в нашем с Марьяном городе). Наконец, вся эта история со старой легендой и ее странная связь с современностью, и странный поворот старой сказки. Да и вообще, куда мог подеться такой человек, как Валюжинич? Хотя… Мог же Кучум после последнего разгрома погнать коня, и следы его, как говорит великий историк, «утерялись во тьме истории». И история эта – моя история, а не та – крайне паскудная, очень во многом страшная.