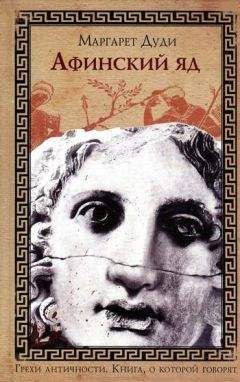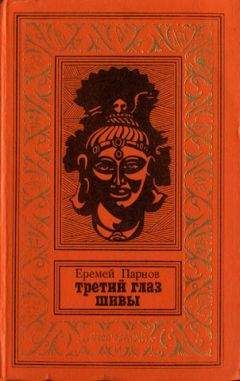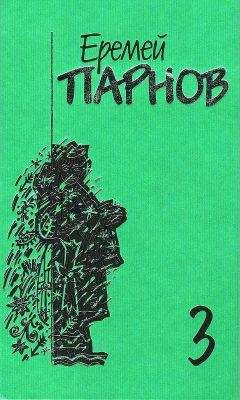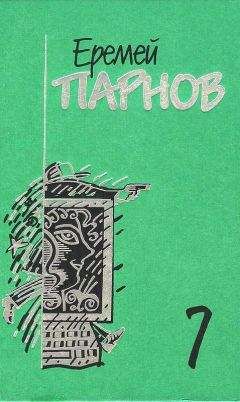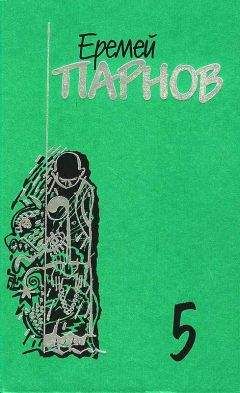Еремей Парнов - Собрание сочинений: В 10 т. Т. 2: Третий глаз Шивы
Он отчаянно стремился не промахнуться, не отрезать своим вынужденным отказом пути назад.
— Ваши чувства похвальны, Марк Модестович, — пухлые губы Фомы Андреевича сложились в ироническую улыбку, напрочь опровергавшую смысл произнесенных слов, — но дело есть дело. Оно не располагает к сантиментам.
— Может быть, некоторое время спустя… — Сударевский отчаянно хватался за ускользающую возможность, но не находил нужных слов. — Вы же знаете, Фома Андреевич, что значит для меня работа, институт… Вот если бы неофициально…
— Детство какое-то! — фыркнул директор. — Вы что, только на свет народились? Назначение врио заведующим лабораторией проводится приказом, как положено, с выплатой разницы в зарплате… Думаю, что здесь, как и в печальной истории с вашим, точнее, Аркадия Викторовича, открытием вы проявляете ложную принципиальность и, скажу вам прямо, недальновидность… Но вам виднее, вам виднее. Как говорится, вольному воля.
— Я глубоко раскаиваюсь в истории с открытием, — сказал, как в омут кинулся, Сударевский.
Фома Андреевич насупил кустистые, с заметной сединой брови и вновь исподлобья глянул на Сударевского. Марку Модестовичу даже показалось, что в серых холодных глазках директора промелькнуло недоумение. Шевельнулось желание все немедленно объяснить, откровенно обо всем договориться. Только как? Полностью открыться Фоме Андреевичу было бы, мягко говоря, опрометчиво, а половинчатость могла лишь усилить его недоверие.
Но, видимо, интерес директора к своему старшему научному сотруднику был настолько силен, что Фома Андреевич решил хотя бы лишь для начала столковаться там, где это окажется возможным.
— Глас разума, даже запоздалый, всегда приятно слышать, — пошутил он и выжидательно замолк.
— Вам, лично вам, Фома Андреевич, — Сударевский легко взмахнул рукой, словно соединил свое и директорское сердца невидимым проводом, — могу признаться, что всегда недоброжелательно относился к этой затее. Я имею право так говорить, потому что шел с Аркадием Викторовичем до конца. Это во-первых… А во-вторых, директору подобных слов обычно не говорят, я в вас, Фома Андреевич, всегда видел мудрого и снисходительного наставника. Я, вы же знаете, не карьерист, и мне незачем прибегать к недостойной нас обоих лести, но против очевидности не попрешь. Я вырос в вашем институте и, развивая ваши, в конечном счете, идеи, добился кое-каких, пусть скромных, успехов… Аркадий Викторович человек очень увлекающийся, безусловно талантливый, но, опять-таки только для вас, абсолютно лишенный критического начала. Мне, конечно же, следовало уговорить его не торопиться с оформлением открытия, подождать, лишний раз все перепроверить, а я вместо этого покорно пошел у него на поводу.
— Чем, кстати, прежде всего навредили себе самому.
— Конечно, — с готовностью согласился Сударевский. — На меня посыпались все шишки, потому что… как бы это поточнее сказать… Аркадий Викторович несколько оторван… от жизни. Но я не жалуюсь. Кроме себя, винить мне некого.
— Напрасно вы так думаете… Очень напрасно. Винить в первую голову нужно вашего шефа. Он достаточно опытный человек, чтобы не понимать, в какую немыслимую авантюру вас втравил. А ведь перед вами открывались прекрасные перспективы! Докторская диссертация, самостоятельная работа большого народнохозяйственного значения. — Директор сделал многозначительную паузу, давая собеседнику осознать всю глубину совершенной ошибки, и, как бы невзначай, спросил: — Не пора ли исправить положение?
— Видимо, пора, — слабо улыбнулся Сударевский. — И прежде всего мне нужно открыто и честно сказать Аркадию Викторовичу все, что я думаю по поводу этого злополучного открытия.
— Вот именно — злополучного! — подхватил Фома Андреевич. — Ну только подумайте, чего вы достигли? Поставили под угрозу защиту диссертации, восстановили против себя отделение, да и в самом институте ваши позиции оказались заметно подорванными… Разве мало?
— Виноват, Фома Андреевич, кругом виноват. Расплачиваюсь за собственное легкомыслие.
— Неужели вы не видели, в какой омут затянул вас Ковский? Знахарство какое-то, а не наука! Я допускаю что, нельзя целиком отвергать интуитивное знание древних, стихийную мудрость рудознатцев и прочих алхимиков. Я не за то, чтобы вместе с водой выплескивать и дитятю. Тем более, что Ковскому действительно удалось воскресить несколько забытых рецептов. Я до сих пор не понимаю, в чем смысл варки самоцветов в меду или запекания их в хлебе. Рациональности не вижу в таких знахарских процедурах. Если это действительно улучшает цвет камней, их оптические свойства, то пожалуйста, варите себе на здоровье. Говорят, он у себя на дому даже с цветами общается. Ни в какие ворота не лезет! Добро бы с кошкой или даже с птичками. У них хоть мозги и нервная система имеются. Но зачем превращать науку в балаган? Кто только не побывал у вас в лаборатории: падкие на сенсации журналисты, какие-то гомеопаты, циркачи, индологи-тибетологи… Голова кругом идет! А институт у нас, между прочим, режимный. Комендант не раз жаловался мне, что Ковский не задумывается над тем, кому именно просит выписать пропуск… Но и это бы еще полбеды! Нравится вам всякая чертовщина, чепуха всякая на постном масле — занимайтесь, слова вам никто худого не скажет. Но если подобное увлечение идет во вред основной работе? Сами посудите, как я должен реагировать на то, что ведущая лаборатория фактически предоставлена самой себе? Как корабль, извините, по воле волн… Заведующий в институте почти не бывает, каждый занимается чем он хочет, без всякого контроля со стороны. Мы долго терпели, снисходя к научным заслугам Аркадия Викторовича, щадя его возраст, — как-никак три года до пенсии. Но ныне, когда — вы сами вынуждены были это признать — под угрозу поставлена вся программа, подобное положение совершенно нетерпимо. Сколько времени выращивался тот монокристалл? — раздраженно дернул плечом директор.
— Шестнадцать недель, — поник головой Сударевский. Казалось, что он никогда больше не сможет оторвать взгляд от пола и посмотреть Фоме Андреевичу в глаза.
— Вот видите! Шестнадцать недель непрерывного опыта! А ведь за этой цифрой стоят большие расходы государственных средств, износ дорогого оборудования, затраты на поддержание давления и температуры, между прочим, зарплата… И все пошло насмарку по причине — будем называть вещи своими именами — халатности и разгильдяйства!.. Эта история, в которую замешан, кстати, уголовный розыск, — закономерный финал. Могу, коль об этом уж зашла речь, дать вам совет: когда будете беседовать с представителями следственных органов, не старайтесь особенно выгораживать Ковского — только себе повредите. Шила в мешке не утаишь.
— Но в чем обвиняют Аркадия Викторовича? Что он такого сделал?!
— Не знаю. Может быть, и ничего. Но то, что незапятнанное до того наше с вами учреждение оказалось причастным к чьим-то, не берусь судить, чьим именно, темным делишкам, целиком на совести Ковского. Просто так, ни с того ни с сего, люди, согласитесь, не исчезают. Подумать только: чтобы доктора наук искал угрозыск! Только этого нам недоставало!.. Позор какой!
— Я ничего не понимаю, Фома Андреевич! — Сударевский сморщился от боли в левом виске. Начиналась мигрень.
— К сожалению, ничем не могу вам помочь. — Директор демонстративно развел руками. — Но выводы из сказанного советую сделать. Хорошенько подумайте, прежде чем станете давать оценку личности вашего бывшего шефа и его действиям.
— Вы так говорите об Аркадии Викторовиче, будто его уже и в живых нет.
— Во всяком случае, нашему ученому совету с ним придется расстаться. Это твердое решение. Эпоха либерализма кончилась. Так что подумайте денек-другой над моим предложением, Марк Модестович. Нечего вам попусту-то казниться. Проведем вас приказом, а там, бог даст, защитите докторскую, и на конкурс можно будет подать. Ну как, подумаете?
— Подумаю! — довольно кивнул Сударевский, вставая.
Компромисс, который с таким тактом предложил ему Фома Андреевич, он принял с радостью. Обещание же подумать ни к чему его не обязывало. Дать его требовала элементарная вежливость. Это и дураку ясно.
— Вот и славно! Значит, мы вскоре вновь с вами увидимся. — Фома Андреевич придвинул к себе красную папку с золотой надписью «К докладу» и углубился в бумаги.
Сударевский замешкался и, не зная, как ему быть, схватился за спинку стула. Мысленно гадал, совсем ли его отпустили или же он еще может понадобиться.
— Да, — сказал Фома Андреевич, поднимая глаза от бумаг, — есть мнение поддержать предложение о посылке вас на предстоящий конгресс в Амстердам.
«Это судьба, — подумал Сударевский. — С этим ничего не поделаешь. Судьба». Он медленно опустился на стул, с трудом соображая, что Фома Андреевич глядит на него и, видимо, ждет каких-то, скорее всего благодарственных, слов. Но боль в виске уже вызывала тошноту, а колени дрожали так сильно, что он был вынужден обхватить их руками.