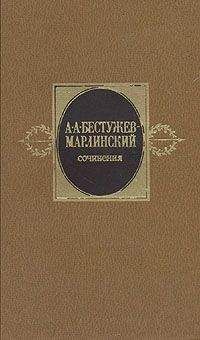Ольга Михайлова - Молох морали
Заметил Юлиан и Дибича. Тот неторопливо вышел за ворота дачи Ростоцкого и направился к его дому. Заметив издалека, помахал рукой. Подойдя, поздоровался и тут же спросил:
— Вы не против, если я переночую у вас, а то в генеральском доме меня с кузенами поселить хотят, — на лице Дибича было расстроенное выражение.
Нальянов кивнул, зная, что с Осоргиными тот подлинно не ладит.
— Конечно, дом пустой, свободных спален два десятка. Располагайтесь. Не занимайте только белый будуар. Завтра обещала приехать тётя, это её спальня.
Дибич искренне поблагодарил, вернулся в дом к генералу и известил Ростоцкого, что ночевать будет у Нальянова, быстро притащил свой сак и распаковал его в одной из спален. Нальянов не помогал ему, а ушёл к себе и вскоре появился в тёмных брюках, лёгком свитере и щегольской охотничьей куртке, явно собираясь прогуляться. Дибич иронично заметил, что выглядит Юлиан Витольдович как модный тенор итальянской оперы, услышал в ответ предложение катиться к чёрту, но ничуть не обиделся. Нальянов зевнул и пожаловался:
— Я плохо спал, под окном полночи выла собака. Чуть свет выехал сюда, не выспался.
— В ваши годы, Юлиан, мужчина плохо спит из-за совсем других вещей.
Нальянов недоуменно посмотрел на него, потом усмехнулся.
— А… я и забыл. Голодной куме всё хлеб на уме, — губы его скривились, — и когда же пикник?
— Сегодня вечером хотят наловить рыбы, там, за Сильвией, а завтра — с полудня — развернётся торжество. Холодные куры, ветчина, настоящая уха, ящик крымского вина.
Нальянов, казалось, не слушал, но потом кивнул. Дибич решил пройтись к месту пикника и пригласил на прогулку Нальянова, но тот сказал, что догонит его, а пока — поздоровается с Ростоцким.
Старая Сильвия, поросшая густым хвойным лесом, была частью дворцового парка императора Павла, она, обильно украшенная скульптурами, густыми зарослями деревьев и кустарников, была излюбленным местом прогулок и пикников. В центре её от круглой каменной площадки со статуей Аполлона лучами расходилась дюжина аллей, приводивших то к статуе Актеона, то Ниобы, то к Амфитеатру, то к Руинному каскаду. У паркового павильона в конце Липовой аллеи, на границе Сильвии, зелень листвы создавала множество затенённых уголков. К павильону мимо траурных чугунных ворот, на столбах которых красовались опрокинутые затухающие факелы, вела уединённая дорожка.
Андрей Данилович миновал ворота. Павильон напоминал древнеримский храм-эдикулу, со стороны главного фасада он был прорезан полукруглой нишей, двумя колоннами и пилястрами. На круглом пьедестале из тёмного мрамора возвышались две белые урны, обвитые гирляндой и укрытые одним покрывалом. Крылатый Гений отбрасывал покрывало, а скорбящая женщина в античной тоге уронила голову на вытянутые руки с горестно сжатыми пальцами. Дибич вздохнул. Здесь, у кенотафов, его вдруг перестали волновать суетные мысли. Что ему за дело до Нальянова? Какая разница, кем была та отчаявшаяся дурочка в ночи? Что он мается из-за девицы, все мысли которой — о другом? Впрочем, опомнился он, в конце концов, это и есть жизнь, суета, наполняющая каждый день подобием забот и дела.
Минувшей ночью он почти не спал, но, стоило ему чуть сомкнуть веки — проступала Елена. Он сжимал её в объятьях, и его ласки вырывали у неё крик, который дышал всем сладким мучением плоти, подавленной бурею наслаждения. В его объятиях она становилась прозрачным существом, лёгким, зыбким, но стоило только кому-то из них сильнее вздохнуть или чуть-чуть шевельнуться, как оба чувствовали невыразимую волну, пробегавшую с головы до ног, трепетавшую все меньше и меньше и, наконец, замиравшую. Это одухотворение плотского восторга, вызванное совершенным сродством двух тел, завораживало его.
Лёжа на спине во тьме, он смыкал веки и звал её всем своим существом, воображал, как она намеренно-медленным движением нагибалась над ним и целовала. Все его члены содрогались неописуемым волнением, в своем напряжении похожем на ужас связанного человека, которому грозит быть клеймёным огнём. Когда же, наконец, уста её касались его, он с трудом сдерживал крик, и пытка этого мгновения нравилась ему.
В пламени этой страсти, как на костре, сгорало всё, что было в нем дурного, искусственного, суетного. После раздробления этих пустых блудных лет, он верил в это, он вернётся к единству сил, действия, жизни. Именно в слиянии с ней приобретёт доверчивость и непринуждённость, сможет любить и наслаждаться юношески.
Потом он видел в грёзах, как она брала свою утреннюю ванну и воистину, ничто не могло сравниться с благородной грацией этого тела в тёплой воде, отсвечивавшей неописуемо нежными отблесками серебра. К утру приступы желания и боли стали так остры, что, казалось, он умрёт от них. Ревность к Нальянову снова пробудилась. Иногда им овладевала низкая злоба против этого превосходящего его мужчины, полная горечи ненависть и какая-то потребность мести, как если бы Юлиан обманул его, предал.
Минутами он думал, что не хочет её больше, не любит и никогда не любил. Это внезапное исчезновение чувства он уже знал, это было своего рода духовное отчуждение, когда в вихре бала или в постели любимая женщина становилась совершенно чужой ему. Но такое забвение было непродолжительно. Спустя минуту в крови и в душе его оживала и загоралась страсть. И его снова до глубины души смущало непреодолимое беспокойство, вызываемое её образом, и тяжёлое плотское томление, совсем не юношеское, а казалось, зрелое и даже чреватое надломом сил…
* * *Тут на тропинке возник Нальянов, всё такой же хмурый и недовольный, снова пожаловавшись, что совершенно не выспался.
Вскоре в парке появились гости Ростоцкого. Они остановились на берегу Славянки, в месте, которое знал Левашов — здесь у него хорошо клевало. Осоргин-младший занялся разведением костра, Тузикова помогала ему, Гейзенберг пытался играть на гитаре, Леонид Осоргин курил и гладил собаку хозяина, борзую Линду, Дибич с интересом наблюдал за Климентьевой, Анна смотрела на Нальянова требовательным и ищущим взглядом, Анастасия и Лизавета сидели молча, а Ванда Галчинская попросила Гейзенберга перестать бренчать и забрала у него гитару.
— А вы умеете играть, Юлиан Витольдович? — кокетливо спросила она. Сегодня в ней было куда больше женственного, чем накануне. Платье с кружевами. Изящные туфельки. Монокль исчез. Волосы были расчёсаны на пробор и украшены красивой заколкой.
Тот молча протянул руку к инструменту, пробежал пальцами по струнам, несколько минут, морщась, подтягивал колки, потом заиграл. Все замерли, Дибич обмер. Нальянова нельзя было упрекнуть в дешёвом щегольстве, Юлиан явно был виртуозом гитары. Слушать его было наслаждением: благородная сдержанность, исключительная чёткость и чистота интонаций говорили об утончённом мастерстве и безупречном вкусе. Флажолеты, глиссандо, выразительное вибрато, разнообразие стаккато и легато — всем он владел в совершенстве.
Все перестали суетиться, девицы окружили Нальянова. Деветилевич, до этого уходивший за хворостом, тоже подошёл и теперь, опершись о ствол старого дуба, не сводил мрачных глаз с Елены Климентьевой, заворожённо слушавшей игру Нальянова.
Не сводил с неё глаз и Дибич, но неожиданно он замер, подхваченный этой колдовской музыкой и странной, одновременно лёгкой и томительной мыслью. Он словно остался один в бесконечности. От всей его юности, от всей внутренней жизни, от всех идеалов не оставалось ничего. Внутри зияла только холодная пустая бездна. Всякая надежда погасла, всякий голос был нем, все якоря сорваны. Зачем жить? Добиваться новой любви? Но в любви — и кому, как не ему было знать об этом — всякое обладание неполно и обманчиво, всякое наслаждение смешано с печалью, всякая услада половинчата, всякая радость таит в себе зерно сомнения, а сомнения портят, оскверняют, нарушают все восторги, как Гарпии делали несъедобною всякую пищу Финея. Зачем же ему снова протягивать руку к древу любви? Искусство! Вот верная любовница, источник чистой робости, заповедный для толпы, доступный избранным. Как мог его дух воспринимать другие волнения, раз он чувствовал в себе незабвенное смятение творческое силы? Как его руки могли предаваться сладострастию женских тел, как его чувства могли ослабеть и развратиться в низменной похоти, после того как они были осенены чувствительностью, постигавшей непостижимое?
Нальянов продолжал играть. Дибич отвёл глаза от девушек — пальцы и лицо Юлиана приковали его внимание. Он смотрел, слушал, немой, сосредоточенный, умилённый, словно проникаясь волною бессмертной жизни. Никогда священная музыка не вызывала в нём такого волнения, как эти аккорды, приветствующие восход Дня в небесах Триединого Бога. Он чувствовал, как его сердце переполнялось волнением. Над душою поднималось нечто вроде смутного, но великого сна, некое волнующееся покрывало, сквозь которое сверкало таинственное сокровище счастья. До сих пор он всегда знал, чего делал, и почти никогда не находил удовольствия желать напрасно. Теперь он не мог высказать своего желания — не умел. Но, без сомнения, желанное должно было быть бесконечно сладостно, потому что уже само желание опьяняло.