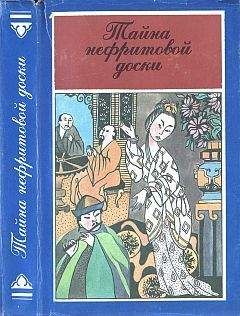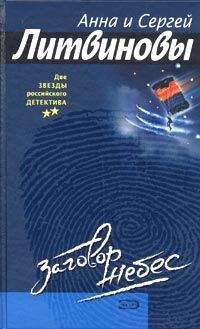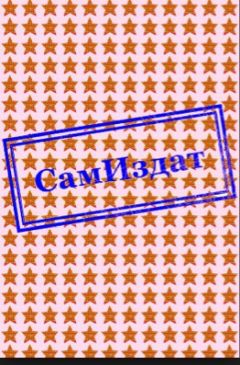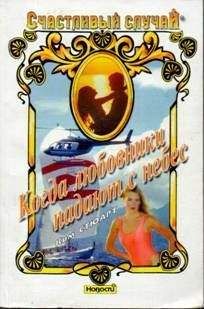Эрик Вальц - Тайна древнего замка
Хочу написать о моей поездке.
Конечно, она была тяжелой. В моем возрасте нельзя просто так проехать десять дней в повозке по ухабистым дорогам, которые в сто раз старше меня. Будь я сливками, уже превратилась бы в масло. Я чувствую, как ноет каждая косточка в моем теле. Болят даже те кости, о которых я раньше и не подозревала.
Еще и эти люди, с которыми приходилось сталкиваться в трактирах и тавернах. Отвратительно! Большинство из них — паломники. Сейчас, осенью, много пилигримов возвращается из Рима. Они думали, что увидят там небесные богатства, а наткнулись на торгашей-прохвостов и жадных до денег попрошаек. В ночлежках для паломников этих простофиль обирали до нитки, там они теряли веру в добро человеческое, зато умудрялись подхватить чесотку. Как же противно сидеть рядом с такими! И не из-за чесотки. Глаза этих дураков горят, они верят, что своим паломничеством заработали небесный грош, которым сумеют расплатиться с Господом за вход в рай. Как будто Всевышний требует входную плату, точно владелец бродячего цирка. Большинство из них кажутся немного пьяными. А по волосам у них ползают вши. Я вижу этих вшей на их головах и даже знать не хочу, где еще эти мелкие твари могут оказаться. У паломников короста на руках, стертые до крови ноги, выбитые разбойниками зубы — они носят эти зубы с собой в кошеле, а потом возьмут их с собой в могилу как доказательство, которое можно представить их богу-циркачу. Кроме того, у них нет денег, а потому они хотят, чтобы я — Я! — заплатила за их хлеб и пиво в таверне. Повезло им, что я нема, иначе я наговорила бы им такого… Они бы до конца жизни об этом помнили.
Но так мне пришлось ограничиться жестами, которые паломники все равно не понимали. Раймунд говорил им, мол, так я выражаю свое восхищение, а что до моего выражения лица, то такой уж я родилась. И эти дураки ему верили! Потом, трясясь в скрипучей повозке, мы с мужем надрывали себе животы от смеха. В такие моменты я думаю, что все-таки немного привязана к моему Раймунду. К счастью, они никогда не длятся долго. Старый дурак!
Когда я приехала на хутор, Орендель, как и всегда, сидел в своей комнатенке, словно немощный птенец. Там у него стоит пенек, на котором можно сидеть, еще один пенек со столешницей сверху и лежанка с соломой. В стене проделана дырка размером с человеческую голову — в нее он может выглядывать наружу. Тут Орендель только то и делает, что пишет да в носу ковыряет. А чем ему еще заниматься? Семь лет назад я вбила в голову крестьянам мысль о том, что их детям нельзя играть с Оренделем, — когда-то Агапет запретил Оренделю и Элисии играть с детьми слуг, в том числе и с моими. Вначале эти четверо уродливых грязных мальцов заглядывали в сарай Оренделя через дыру — он рассказывал мне об этом. Кто-то из этих детей разговаривал с ним, кто-то смеялся над ним, но Оренделю это не мешало, он был рад любому развлечению, даже если эти мальцы его обижали. Он начал рассказывать им свои истории. Впрочем, через какое-то время Орендель понял, что зря растрачивает свой талант на этих грязных голопузов, и стал записывать свои истории на бумаге, которую я ему давала. Вскоре мальчишки утратили к нему интерес, ведь Орендель им больше ничего не рассказывал и стал нем, нем, как свинья в стойле. Вокруг него воцарилась тишина. Утром Оренделю приносили миску овсянки, а вечером то, что было под рукой, — краюху хлеба, яблоко, морковку, кусок вяленого мяса или засоленной рыбы, кусок сыра или, если уж совсем не было ничего другого, еще одну миску овсянки. Приезжая к Оренделю, я всякий раз оставляла крестьянам деньги за еду для мальчика и за их молчание. Графиня давала мне на поездку два золотых, и на эти деньги малец мог бы нормально питаться. Но из двух золотых Раймунд оставлял по одной золотой монете для нас (конечно же, об этом никто не знал), а вторую монету крестьянин пропивал в трактире, и лишь крошечная часть этих денег доходила до Оренделя.
Как и всегда при моем приезде, мальчик бросился мне на шею. Он обожал меня, и с тех самых пор, как его сделали затворником, его любовь ко мне стала еще сильнее. Можно возразить, что никакой особой заслуги в этом нет, ведь Орендель полюбил бы и куклу, дари она ему хоть немного внимания и ласки. Но дело не только в этом. Хотя я не могла сказать парнишке и слова, я была для него лучшим другом, и, хотя в сердце моем был лишь холод, Оренделю казалось, что он чувствует мое тепло. Вначале мне было наплевать на то, что он там чувствовал, и я даже не старалась вызвать его любовь. Но вскоре я начала получать удовольствие оттого, что Орендель любит меня больше, чем собственную мать. Между мной и графиней словно разразилась битва за сердце этого юноши, и я постепенно побеждала. Должна сказать, это не оставило меня равнодушной. Борьба за любовь Оренделя стала одним из немногих развлечений, которые я себе позволяла.
Мне кажется, что, когда я описываю это вот так, никто не понимает, как именно проходила эта борьба. Очень жаль, потому что я уже давно пишу не только для себя. Нет, собственно, я с самого начала писала не только для себя, но и для того, кто когда-то прочтет эти мои слова. Случится это через двадцать, сто или тысячу лет, мне все равно. Наплевать. Когда-нибудь кто-нибудь прочтет это и узнает, что я сделала. Что я сделаю. И почему.
Орендель… Первый год в заточении… Этот рифмоплет, конечно, ничего не понимал. Пока он жил в замке, с него пылинки сдували, а тут его похитили, словно мешок с мукой, а потом заперли в курятнике, обнесенном высокой каменной стеной. От такого любой свихнется. Графиня поручила мне поселить ее сына у добрых, приветливых, надежных и зажиточных людей с детьми возраста Оренделя на хуторе в неделе езды от замка. Там ее сын должен был расти в окружении, которое соответствовало бы его натуре и отвлекло бы его от разлуки с семьей. Трогательно, да? Плевать я хотела на ее поручение. Я поселила Оренделя там, где хотела. У бедных и суровых крестьян, которые обрадовались предложенным им деньгам, а больше всего обрадовались тому, что им и пальцем пошевелить для этого не пришлось. Конечно, графиня писала сыну письма и передавала их мне. Конечно, Орендель их не получал. Я читала эти письма по дороге к нему и выбрасывала. Орендель очень страдал от одиночества и условий жизни в заточении. Он все время думал о том, как мать могла так поступить с ним, как она могла поселить его в таком ужасном месте, пусть и из лучших намерений.
Мальчик много раз думал о побеге, но высокие стены останавливали его. Когда он спрашивал, почему мать не передает ему ни весточки, почему его поселили именно тут, я лишь пожимала плечами. (Когда я захочу, то могу быть весьма разговорчивой, пусть у меня и нет языка, но если у меня нет желания говорить о чем-то, то от меня ничего не добьешься.) Орендель очень удивлялся изменениям в моем поведении. Я была его кормилицей и заботилась о нем — мне приказали о нем заботиться! — а тут я вдруг начала вести себя, точно его тюремщица. Мальчишка настоял на том, чтобы писать матери, и я позволила ему это. На обратном пути я читала его письма, выбрасывала их и писала новые (еще много лет назад, едва научившись писать, я наловчилась подделывать почерки). В этих письмах «Орендель» сердечно благодарил графиню за свое спасение, хвалил свой хутор, рассказывал о товарищах по играм и печалился лишь о том, что ему приходится быть вдали от семьи и отчего дома. Получая эти письма, графиня плакала от счастья.
Я думала, что эта игра продлится лишь год, потому что Орендель не переживет первую зиму в сарае. Я представляла себе, как возвращаюсь из очередной поездки и сообщаю графине, что Орендель умер. Конечно, я не назвала бы истинную причину его смерти, само собой разумеется, я не сказала бы, что мальчишка скончался от слабости, вызванной голодом и холодом. Я сообщила бы ей, что малец заболел, например оспой, и нашим добрым крестьянам пришлось поскорее избавиться от тела. Мол, они скорбят о нем. В общем, я бы придумала что-то правдоподобное. Ах, какое это было бы наслаждение — сообщить графине о смерти Оренделя! А самым лучшим было бы то, что Клэр не могла бы проявить свою печаль, не могла бы поделиться своим горем ни с кем, кроме меня и Раймунда. Иначе ей пришлось бы сознаться в том, что это она похитила Оренделя, и тогда Агапет бы ее не пощадил. Он с уважением относился к женщинам, но в то же время мог быть очень жестоким.
Что до сокрытия похищения в тайне, то теперь графине уже нечего бояться, ведь Агапет гниет в могиле, но в остальном для нее стала бы страшным горем новость о том, что с Оренделем что-то случилось. (Почему я пишу так, словно есть возможность какого-то другого исхода? Все так и будет, и то наслаждение, о котором я говорила, еще ждет меня. Но я не хочу забегать вперед.)
Орендель пережил первую зиму. Не знаю, как ему это удалось, ему, всегда спавшему в комнате с двумя каминами, замерзавшему под теплым одеялом. А тут он покашлял немного, подхватил насморк, и все, ничего хуже с ним не случилось. Когда я приехала к нему в начале апреля, то увидела в его лице то, чего я никогда не предполагала в этом мальчишке. Какое-то упрямство. Волю. Стремление воспротивиться судьбе. Это стремление было еще слабым, но оно уже зародилось в нем, зародилось во льдах холодной зимы.