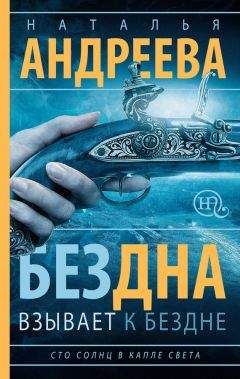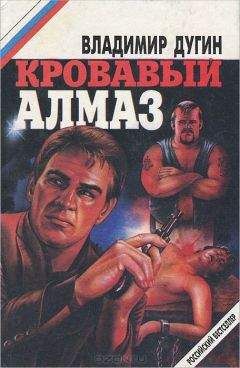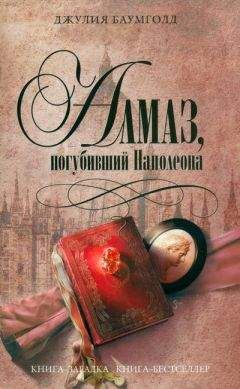Питер Акройд - Лондонские сочинители
— Мэри, а Мэри, чем это ты занимаешься?
Она посмотрела в сторону брата, но словно бы невидящим взглядом. Он сразу понял, что она бродит по дому в лунатическом сне. Мэри встала и подошла к окну. Затем глубоко вздохнула и, высоко воздев руки, пробормотала:
— Еще не сделано. Еще не сделано.[102]
После чего повернулась и, явно не замечая брата, направилась наверх, в свою спальню. Чарльз убрал посуду в ящики и вернулся к себе.
* * *Но наутро, в субботу, он сестры не увидел. Ссылаясь на усталость, она весь день не выходила из комнаты. А на воскресенье они еще прежде договорились все вместе продолжить работу над сценой с мастеровыми из «Сна в летнюю ночь». Чарльз думал, что Мэри под каким-нибудь предлогом уклонится от репетиции, но когда он спустился к завтраку, она уже сидела за столом, положив рядом с прибором свой экземпляр текста.
— Из Тома Коутса получается отличный Миляга, — бодрым голосом сказала она брату. — А вот Пигва в исполнении мистера Мильтона вызывает у меня сомнения.
— Все уладится, Мэри. Бен войдет в роль и справится. Как ты себя чувствуешь?
— Я? А что?
— Ты же вчера весь день провела в постели.
— Накануне плохо спала ночь. Только и всего.
— Но теперь отдохнула?
— Вполне. Чарльз, ты выучил роль назубок? Основа — очень важный персонаж.
— Не на зубок, милая, а на все тридцать два зуба. Куда надежнее.
— Это одно и то же. — Она отчего-то помешкала, прежде чем налить брату и себе чаю. — Мама с папой ушли в храм. Нет смысла их дожидаться.
В течение часа прибыли Том Коутс, Бенджамин Мильтон и остальные. Тиззи сразу вела их в сад, чтобы они не пачкали ее чистые полы «своими грязными сапожищами». Стоял яркий солнечный день, и приятели с удовольствием уселись в полуразвалившейся пагоде.
— Суть в том, как это поставить, — втолковывал Тому Бенджамин. — По пьесе у Миляги писклявый голос. А ты кого играешь?
— Льва.
— Вот именно. Только рычишь. Ты когда-нибудь слышал, чтобы лев рычал дискантом?
— А как же Основа?
Селвин Оньонз не удержался от уточнения:
— Он же ткач, верно? А вы знаете, что основой когда-то называли фарфоровый стержень, на который наматывалась нить?
— Выходит, Шекспир совсем не ту основу имел в виду? — спросил Бенджамин, не веря своим ушам. — Не ту, что всегда внизу, а у нас с вами — пониже спины?
— Об этом тут и речи нет.
— Вздор, Селвин. А как тогда понимать слова «Я бурю подниму»? Это же не что иное, как намек на пуканье.
К ним подошла Мэри:
— Что это вы так серьезно обсуждаете?
— Наши роли, мисс Лэм, — ответил Бенджамин, с некоторой опаской относившийся к сестре Чарльза.
— О, эти персонажи должны быть дерзкими. И очень живыми.
— Именно об этом я и толковал. Должны лететь, «несомы ветром»…[103]
— Прекрасно сказано, мистер Мильтон. Начнем со сцены у стены, господа. Займите, пожалуйста, свои места.
Селвин Оньонз, игравший роль медника Рыло, который в спектакле мастеровых изображает еще и стену, отошел в глубь сада и стал, широко раскинув руки.
— Не забудьте только растопырить пальцы, — напомнила Мэри. — Мы должны видеть в щель, что происходит за стеной. Чарльз будет от вас по одну сторону, а мистер Дринкуотер — по другую.
— У них свидание, да, мисс Лэм?
— Да, свидание. У влюбленных же это основное занятие.
— Спектакль мастеровых задуман для объяснения смысла всей комедии, — сообщил Альфред Джауэтт тем, кто готов был его слушать. — Это пьеса в пьесе. Что в ней реально, а что выдумка? Если она всего лишь фикция, то насколько основная пьеса ближе к действительности? Или обе они не более чем сновидения?
Мэри вспомнился недавний сон. Она стоит среди грядок душистой зелени, с наслаждением вдыхая ароматы трав, и вдруг к ней подходит некто и говорит: «Вы стали бы здесь желанной гостьей, если бы постриглись в монахини».
— Мне кажется, Шекспир прекрасно сознавал, что его пьесы — фикция, игра воображения. Уж он-то не путал их с реальной жизнью.
— И ничего не хотел ими сказать нам, мистер Джауэтт?
— Ничего. Его цель — позабавить зрителей.
Тем временем Чарльз Лэм в роли Пирама и Сигфрид Дринкуотер в роли Фисбы уже заняли свои места по обе стороны стены. Фисба заговорила писклявым голоском:
Не ты ль, Стена, внимала вопль печали,
Что от меня отторжен мой Пирам?
Вишневые уста мои лобзали
Твою известку с глиной пополам.[104]
— Это она про его причиндалы речь ведет, — шепнул Том Бенджамину.
— Выходит, у Шекспира тут непристойный намек?
— Ясное дело. Целую тебя сам знаешь куда.
После слов Фисбы сразу вступил Чарльз:
Я вижу голос; дай взгляну я в щелку.
Услышу ль Фисбы я прекрасный лик?
О Фисба! Ты ли к щелке там приник?
Я думаю…
Мэри шагнула вперед:
— Здесь вступает мистер Дринкуотер, не так ли? Фисба узнала голос возлюбленного. — «Ты ли к щелке там приник? Я думаю…» И потом, Чарльз, для влюбленного ты чересчур сдержан. Влюбленный ведь так и пышет страстью.
— Ей-то откуда знать? — шепнул Бенджамин Тому.
— А ты не слыхал? У нее появился обожатель.
— У Мэри Лэм?!
— Да. Чарльз мне сказал.
— Чудеса, да и только.
— Роман в разгаре.
* * *Спустя несколько часов после репетиции, уже сидя в пивной «Здравица и Кот», они вновь вернулись к этому сюжету. Чарльз с приятелями отошли к стойке, а Том и Бенджамин, устроившись рядышком в углу, принялись со смехом обсуждать пикантную новость.
— Если у Мэри Лэм и впрямь завелся любовник, — говорил Том, — ему надо держать ухо востро. Она барышня язвительная, отбреет за милую душу. Слышал, как она отчитала Чарльза, когда тот начал дурачиться? Прямо взбеленилась.
— Да она пошутила.
— Сомневаюсь. Ткач Основа, конечно, лишь рассмеялся, а вот Чарльз был в душе задет за живое.
— И как зовут обожателя?
— Уильям Айрленд. По словам Чарльза, он торгует книгами в одной из здешних лавок. — Взяв со стола большой кувшин крепкого портера, Том налил себе очередную кружку и продолжил: — Он вроде бы большой поклонник Шекспира. Сделал какие-то открытия, которым рукоплещет ученый мир.
— Целую его сам знаешь куда.
— Вопрос в том, целует ли она его туда же.
— Horribile dictu.[105]
Облокотившись о стойку бара, Чарльз слушал путаный разговор Сигфрида и Селвина о Королевской академии,[106] как вдруг увидел, что в зал входит Уильям Айрленд и с ним молодой человек в весьма необычном наряде — зеленом сюртуке и зеленой же шапке, отороченной бобровым мехом.
Айрленд сразу заметил Чарльза и направился к стойке здороваться. Незнакомец в зеленом сюртуке стал позади Уильяма.
— Это де Куинси, — представил Уильям своего спутника. Молодой человек снял шапку и поклонился. — Он в Лондоне недавно.
— Где вы остановились, сэр?
— Пока на Бернерз-стрит.
— Один мой знакомый тоже живет на Бернерз-стрит, — сказал Чарльз. — Джон Хоуп. Не знаете такого?
— Лондон — город огромный, сэр, жизнь тут так и кипит. На этой улице я ни с кем не знаком.
— Зато теперь вы знакомы с нами. Это Селвин. Это Сигфрид, — Чарльз похлопал приятелей по спинам. — А там, в углу, сидят Розенкранц и Гильденстерн. Как вы познакомились с Уильямом?
— Я побывал на его лекции.
— На лекции? Какая такая лекция?
— Разве Мэри вам не говорила?
— Сколько я помню, нет, — сдержанно ответил Чарльз. Во всем, что касалось сестры, он теперь проявлял большую осмотрительность.
— На прошлой неделе я выступал с лекцией. Де Куинси тоже пожаловал, за что я ему безмерно признателен. А на следующий день он заехал ко мне.
— И вы сразу крепко подружились, — заключил Чарльз, немало удивленный тем, что Мэри ходила на лекцию, ни словом ему о том не обмолвившись. — Прошу вас со мной за столик, господа.
Предоставив Селвину и Сигфриду обсуждать у стойки самоубийство боксера Фреда Джексона, Чарльз направился к столу возле стены.
— Я бы тоже с удовольствием вас послушал, — сказал он Айрленду.
— О, ничего интересного вы не пропустили. Я ведь не актер.
— Разве?
— Тут требуется настоящий актерский талант. Умение говорить уверенно и с увлечением. Я на это не способен.
— Будет вам, уж вы-то, Уильям, этими достоинствами обладаете в полной мере.
— Обладать легко, а вот заразить своей увлеченностью других — очень трудно.
Чарльз не знал, стоит ли ему заводить речь о пьесе «Вортигерн». Вдруг Мэри передала ему рукопись тайком от Уильяма? Айрленд, казалось, прочел его мысли:
— Как поживает Мэри? На лекции она выглядела немного усталой. После падения в реку…