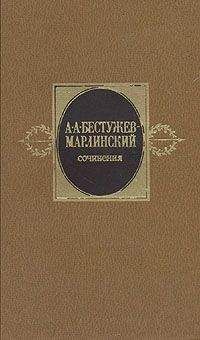Ольга Михайлова - Молох морали
Дибич снова предпочёл сделать вид, что не понял Аристарха.
— Голову потеряла… Ты о ком?
Деветилевич опомнился.
— Неважно. Все они одинаковы. Пялятся на него…
— Ну, не все. И Елизавета не особо от него, по-моему, в восторге, и средняя Шевандина тоже. А младшую, Анну, он вообще, кажется, бесит.
— Как бы ни так, — зло огрызнулся Аристарх. — Бабское притворство. Все они к нему неровно дышат. Ну, может осоргинская Лизавета дурью не больна, и то, потому что понимает, что никому, включая Лёнечку, не нужна.
— Ну, шутишь, — провоцируя Деветилевича, усмехнулся Дибич, — он разве что Климентьевой нравится.
На скулах Деветилевича заходили желваки.
— Гадина… — словарный запас Аристарха в моменты озлобления богатством не отличался, Дибич давно заметил это, и сейчас ничуть не удивился.
Дверь скрипнула в петлях, на крыльце в ночи возник Павлик Левашов, в криво падающем оконном свете больше чем когда-либо похожий на перевёрнутую пентаграмму, лицо его уподоблялось козлиной морде, но он вступил в тень и всё пропало. Левашов плюхнулся на скамью.
— Как же они осточертели, эти реформаторы, — тихо и зло бросил он, — Лариоша поминутно теряет очки и забывает застегнуть пуговицы на ширинке, Лаврушка жрёт, едва дорывается до стола, как Пантагрюэль, Лёнечка ради десяти тысяч на лягушке жениться согласился, Серёженька два и два с трудом после университета складывает, а все туда же — строить новый мир!
Деветилевич кивнул.
— Да уж, всемирные устроители человечества…
Дибич решил, что делать ему тут уже нечего. Он поднялся, дружески распрощался с приятелями, и направился к себе на Троицкую. Проходя мимо чалокаевского дома, остановился. Его удивило, что в окнах не было света: спальня Нальянова с тяжёлыми тёмно-зелёными портьерами — не была освещена. Однако загадка разрешилась быстро. Из темной аллеи у дома показались две тени. Нальянова Дибич узнал сразу. Напрягся, рассматривая высокую женщину в чёрном платье, и тут чертыхнулся про себя.
С Нальяновым шёл монах Агафангел.
Видимо, Нальянов нагнал его дорогой. Дибич удивился ещё и тому, что оба явно никуда не торопились, шли не таясь, то и дело останавливаясь, оживлённо жестикулируя. Их силуэты отбрасывали в свете фонарей длинные тени на цветочные клумбы.
Дибич прислушался. Говорил Нальянов.
— На первый взгляд, Бог превосходит все бесконечное, а наш разум может познать Бога, следовательно, он может познавать и бесконечное. Но это — иллюзия, Григорий. Бог бесконечен как форма, не ограниченная материей, а в вещах материальных бесконечным называется то, что не имеет ограничения. Форма познаётся, а материя без формы не познаётся, стало быть, материальное бесконечное не познаётся. Формальное бесконечное, Бог, сам по себе познаваем, но для нас, вследствие ущербности нашего разума, приспособленного к познанию материального, непознаваем. И потому мы можем познавать Бога только через Его проявления, но не можем лицезреть Бога в Его сущности.
В ночи послышался голос Агафангела.
— Но мы способны к познанию различий и количества, количество же, например, чисел, бесконечно. Вот вам и возможность познавать бесконечное.
— Нет. Бесконечное не может познаваться, если не перечислены все его части, а это невозможно. После восприятия максимального количества бесконечного можно всегда принять и нечто сверх него. И если даже признать новомодную придурь, что разум есть бесконечная способность к познанию, то надо возразить, что способность пропорциональна своему объекту, и разум должен так соотносился с бесконечным, как соотносится с ним его объект. Но среди материальных вещей не обнаруживается бесконечного, и поэтому разум никогда не может помыслить столь многое, чтобы он не мог помыслить затем ещё большее. Таким образом, наш разум может познавать бесконечное только потенциально.
Бартенев засмеялся и поднял ладони вверх.
— Сдаюсь. Если такой схоласт начнёт рассуждать…
Нальянов усмехнулся, авторитетно поднял палец вверх и сказал:
— В давние времена папа Бонифаций Восьмой объявил войну могущественному роду Колонна, жившему в Пенестрино. Бонифацию не удалось взять его силой, и тогда он призвал Гвидо да Монтефельтро, францисканского монаха, пообещал открыть ему двери рая и отпустить грехи, если тот даст ему совет, как победить Колонну. Тот дал лукавую рекомендацию обещать Колонне полное прощение, если они уступят Пенестрино, потом сровнять замок с землёй, а после — изгнать род из Рима. Папа так и поступил. У Данте лукавый францисканец попадает в ад. Чёрный херувим счёл, что, несмотря на обещанный папой рай, он должен получить, по совету своему, ад, и говорит ему: «Forse tu non pensavi, ch'io loico fossi? А ты не думал, что я тоже логик?» — Нальянов усмехнулся, — вот и я тоже всегда боюсь услышать это от чёрта.
— С чего бы? — усмехнулся монах. — Вы же ничего не проповедуете, не интересуетесь преступлениями, не волочитесь за женщинами и не верите в народное счастье. Лукавых советов тоже не даёте. С чего бы вам беспокоится?
— Из-за недостатка логики, отец Агафангел.
Бартенев повернулся к нему, долго смотрел в лицо, потом странно смущаясь и отворотив глаза от собеседника, точно про себя пробормотал: «Мне померещилось, что у вас совсем не логики недостаток».
— Конечно, грехи мои явны, — Нальянов рассмеялся. — Окромя гордыни бесовской, грешен всем набором барским — от безделья и лени до уныния.
Бартенев, раз подняв глаза на Нальянова, тут же и опустил их.
— Я вам не духовник. Но, хоть и умны вы пугающе, кажется, несчастны очень, — он умолк, заметив, что Нальянов отшатнулся.
Монах стал торопливо прощаться. Нальянов, как заметил Дибич, на прощание кивнул и, не глядя на него, медленно пошёл к дому.
Дибичу не понравился услышанный разговор — и какой-то схоластической дидактичностью, и своей неотмирностью, и тем, что Нальянов был столь красноречив с нищим монахом. Он поймал себя на том, что едва ли не ревнует. И бунтовало не самолюбие — снова заныло сердце. Он вышел из тени, шаги его зашуршали по гравию, и Нальянов, уже севший на скамью у входа, обернулся.
— А, Андрей Данилович! — он поднялся навстречу Дибичу.
— Не знал, что вы с монахом-то знакомы.
Нальянов вдруг подался вперёд.
— Агафангел? Вы его знаете?
Дибич кивнул.
— Конечно. Учились вместе. Безумец. Загубленная жизнь. Сын Гордея Бартенева, богача-промышленника. Способности к математике, физике. Ему прочили блестящее будущее — и вот, всё насмарку. Богоискатель… Он служит в Павловске.
— Григорий Бартенев…вспомнил, — пробормотал Нальянов, кивнув, и продолжил, — ну, и объясните теперь, Бога ради, смысл вашего красноречивого взгляда. Зачем вам пикник Ростоцкого, точнее, зачем вам на оном увеселении я?
Дибич сел на скамью.
— Честно? Я заинтересовался иррациональными вещами, а именно — вашим колдовским обаянием, и хочу попытаться разложить его на составляющие. Проанализировать.
Нальянов расхохотался, хоть и негромко и не очень-то весело.
— Объектом разума может быть только рациональное, дорогой Андрей Данилович. Иррациональное же непознаваемо по определению. Его можно ощутить, но это, мне казалось, не про вас.
— Господи, вы отказываете мне в способности чувствовать?
— Боже упаси. Но вы собираетесь познавать фантомы.
— Ну, нет. Вы — просто колдун. И я докопаюсь до разгадки…
— Колдовство — в женской глупости, дорогой Андрей Данилович. Только женщина может быть одновременно верить комплиментам и быть уверенной, что мужчинам верить нельзя. — Нальянов невесело усмехнулся. Он снова, казалось, зримо удалялся в свои мысли, был рядом и в то же время бесконечно далеко.
* * *Дибич попрощался с посмеивающимся Нальяновым, однако, направился вовсе не домой. Ему решительно нечего было делать дома, и он решил сходить к Малеру: его портсигар опустел. Франц Малер жил на втором этаже над своим магазином и покупателям был рад в любое время. После Дибич медленно побрёл по тёмной улице, освещённой только у почты. Дипломат никогда не выйдет из себя непреднамеренно. «Нестерпимое положение» на дипломатическом языке означает положение, с которым неизвестно, что делать, и которое поэтому приходится терпеть. И сейчас он попал именно в такое положение.
Мысли его были далеко, а воображение услужливо нарисовало перед глазами картину: кареглазая красавица, чьи темно-рыжие волосы отливали радужными бликами в отблесках каминного пламени. Он возжелал эту красотку, и теперь, морщась, вспомнил высокомерные слова Нальянова, столь унизившие его. «Зря…»
Однако, этот наглый барич та ещё штучка. Лжёт, похоже, и не краснеет. Неужто равнодушен? Неужели он способен предпочесть красотке Климентьевой — эмансипированное чучело? Но Дибич знал и Елизавету Елецкую. Ценил не высоко, девица казалась взбалмошной и недалёкой, но красавицей была редкой. Точно ли Нальянов совратил её, как сказал Маковский, или… как намекнул сам Нальянов, он пренебрёг ею? Павлуше да Бориске верить — себя не уважать.