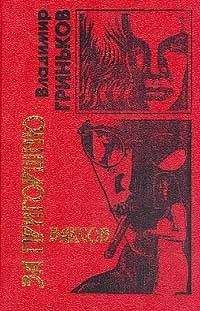Джеймс Риз - Досье Дракулы
Семь шелковых пелен, которые поднимались от стен, образуя потолок, иллюстрировали Ам-Дуат, или «Книгу того, что есть в преисподней». А если точнее, на них были начертаны иероглифы и изображен посмертный путь фараона: его путешествие по царству мертвых с богом солнца Ра в ладье ночи — и его воскрешение или реинкарнация на рассвете следующего дня вместе с солнцем. Там, на носу ладьи ночи, стоял Сет, защитник мумии фараона, изображенный на потолке храма с его возносящейся душой (духом).[121]
Что касается самих стенных панелей, то они были густо изрисованы изображениями божеств. Среди них выделялся Гермес-Тот, греко-египетский бог мудрости и всякой умственной деятельности, которого особенно почитали основатели ордена Золотой зари. Именно по его имени их сообщество и тайное знание называлось «герметическим». Других богов я опознал легко: Анубиса с головой шакала, Бастет с кошачьей головой, Гора с головой сокола и Хатор в виде коровы. Конечно, были представлены Исида, Осирис и Сет. Две панели целиком были посвящены их истории, а поскольку многие ее события вскоре развернутся на этих страницах, позволю себе остановиться на ней более подробно. Правление Осириса и Исиды — брата и сестры, мужа и жены — считается великим, но коротким, ибо ему положил конец их ревнивый брат Сет. Приняв облик ящера, Сет, согласно легенде, скользнул в Нил и разорвал на куски своего купающегося брата Осириса. Однако Исида, обнаружив, что эти части тела не съедены лягушками и прочими тварями, сумела собрать их воедино и оживить Осириса, а затем и зачать от него.
Заподозрив, что Сет хочет убить и законного наследника Осириса, беременная Исида спряталась в дельте Нила. Там родился ее сын Гор. Как она и опасалась, Сет все же убил его. Исида с помощью магических ритуалов вернула жизнь и Гору тоже, благодаря чему возвысилась по статусу и стала равной великому богу Ра.
Гор отомстил за отца и за себя, восстав против узурпатора Сета. Совет богов принял решение в его пользу: Гор получил корону, Осирис был воскрешен, ибо при взвешивании его сердце оказалось легче пера Маат, и назван правителем царства мертвых и судьей усопших, а Сет был изгнан в пустыню, обреченный обратиться в духа зла, врага Египта.
На стенах храма был изображен Сет, превратившийся из защитника в проклятого и совершенно утративший человеческий облик — с рылом трубкозуба и ослиными ушами. Изображение было чрезвычайно отталкивающим и, как мне представляется, еще более пугающим в свете последующих событий.
Неизгладимое впечатление, произведенное на меня убранством храма, почему-то сопровождалось учащенным сердцебиением и обильной потливостью. Мысли мои путались. Был ли я искателем, как все остальные здесь, и если так, что же я, нет, мы искали среди тайн Древнего Египта? Обещания имеющей ясную цель жизни? Дорогу к ней? Или возможность запечатлеть в письме жизни имя Господа? Конечно, никаких ответов не последовало, но эти вопросы ушли куда-то в глубь подсознания из-за того, что я увидел потом.
Вот панель, изображавшая то самое взвешивание сердца умершего, в ходе которого оценивалось достоинство его жизни. А каково будет достоинство моей жизни? Какова будет ее значимость? И если я размышлял об этом 1-го, в пятницу, то сейчас это занимает меня еще больше.
Изображение соответствовало содержанию 125-й главы «Книги мертвых», где описаны весы Анубиса. На одну чашу клали сердце умершего, на другую — перо истины, принадлежащее Маат. Осирис стоит рядом, чтобы по результатам испытания отправить покойного либо в рай, либо в ад. В последнем случае никчемное сердце скармливалось изображенному под весами Пожирателю, похожему на бабуина. Этот ритуал, взвешивание сердца, был знаком мне по моим предыдущим занятиям, но как сильно поразил он мое воображение: тут и завет Уитмена, выплывший первым делом в моем сознании, и молчаливо толпящиеся вокруг меня божества, и не сводившие с меня глаз адепты. И я повернулся именно к ним, а не к Констанции, которую узнал только по красному цвету ее туфель. Кем были остальные, мне оставалось лишь догадываться.
На полу храма были изображены стороны света, и соответственно им я описываю местоположение адептов. На восточном помосте восседали трое мужчин, одним из них был Биллиам. Их выделяло не только местоположение, но и облачение: они не имели капюшонов, но зато поверх белых балахонов на них были наброшены цветные плащи или мантии. Головные уборы имели те же цвета и представляли собой складчатую ткань, которая откидывалась со лба через голову и ниспадала на плечи.[122] На груди у каждого из этих троих красовалась пластина с изображением божества, с которым они предположительно были связаны: слева направо я узнал Нефтис, Исиду и Тота.[123] Крайний слева держал красный меч, тот, что посередине, — голубой жезл, увенчанный мальтийским крестом. У Йейтса был желтый жезл с шестигранным наконечником, но, в отличие от прочих, он не держал его в руках, ибо, очевидно, его обязанностью было записывать все происходящее.[124] Двух других человек на помосте я не знал. Оба были старше меня на несколько лет, и оба носили бороды — длинные, окладистые, — при этом тот, который находился посередине, был совершенно лыс. Однако я так и не узнал, кто они, ибо после того дня Констанция дважды отказывалась принять меня на Тайт-стрит, а когда наконец я добрался до нее, она не призналась в том, что видела что-то… предосудительное, и, расплакавшись, отказалась назвать мне имена тех, на чьи свидетельства я мог бы опереться. Задавать же вопросы молодому Йейтсу было бесполезно, ибо Сперанца, которой мне еще предстояло во всем этом признаться, говорит, будто ее ирландский поэт живет среди демонов и божеств, находя их в повседневности.[125]
Семь остальных адептов, все в капюшонах, сидели, занимая стратегически важные позиции по всему храму. Один был одет как я: еще один новообращенный? Второй тоже был в белом, как и не имевший капюшона Иерофант, производивший обряд.[126] Остальные были одеты в черное и неотличимы друг от друга, если не считать орудий, которые они держали, или символов, которые они демонстрировали. Констанция, например, размахивала курильницей, окуривая благовониями южную сторону храма.[127] Рядом с Констанцией — у юго-западной стены, возле панели, раскрашенной как ложная красная дверь, подобная тем, какие часто встречаются в египетских гробницах и через которые, как говорят, свободно проходят духи умерших, — сидели два адепта, несомненно, мужчина и женщина. Мужчина с оком Гора на нагрудной пластинке мне знаком не был.[128] Женщину я узнал по первой же из ее многочисленных декламаций. Это была Ф. Ф., которая высоко держала — по причинам, оставшимся мне неизвестными, — красную лампу.[129] О личностях остальных я не осмеливаюсь даже строить догадки.[130]
Но я слишком хорошо знаю, кто был тот другой, облаченный в белую мантию неофит, стоявший на коленях рядом со мной перед отделявшим нас от помоста длинным, заваленным неведомо чем столом, — Фрэнсис Тамблти. Я узнал его по манере держаться, по той надменности, которой он был не в состоянии скрыть, по блестящим черным глазам, по их огню, мрачно светившему из-под капюшона. Он все-таки пришел. Как он осмелился? И кого он очаровал, чтобы его допустили в орден? Констанцию, которую так испугал, когда она впервые увидела его за дверью буфетной Сперанцы? Маловероятно. А как насчет Биллиама? Думаю, что нет. По словам Сперанцы, юноша склонен привлекать в орден женщин, а меня поддержал лишь по ее настоянию. Кого же тогда? Впрочем, это не имеет значения, дело-то сделано. Он был там. В этом сомневаться не приходилось, и, к моему огорчению, столь серьезный обряд, в котором мы оба должны были принять участие, не предусматривал дискуссий. Я так долго ждал встречи с этим человеком, что теперь, признаюсь, мне всерьез хотелось послать подальше всех адептов и взять Тамблти за грудки.
Тем не менее я молча опустился на колени рядом с этим человеком. И прежде чем я понял это, началось наше посвящение. Тамблти исполнял ритуал первым, с собачьей преданностью делая все, что велел ему Иерофант. Мне, в свою очередь, приходилось повторять все за ним.
Ничего другого не оставалось, кроме как стоять на коленях и ждать. И я наблюдал, так что здесь я могу записать простым и ясным языком все, что происходило. Невозможно себе представить, но это происходило.
Иерофант — высокий, худощавый и довольно привлекательный мужчина, несмотря на шрам, проходивший от уголка его рта вверх по левой щеке,[131] направился к тому месту, где мы вдвоем стояли на коленях. Он заговорил, но настолько пространно, что я не способен полностью передать его слова на бумаге. Могу лишь сказать, что речь шла о понятиях очищения и осуждения, а также о тех обрядах, которым нам предстояло вскоре подвергнуться, пройдя метафорическое взвешивание наших собственных сердец, каковое и являлось посвящением в орден. Вернее, все это сводилось к метафоре, реализующейся в астральной плоскости и не воспринимаемой на физическом уровне. Новообращенному требовалось лишь следовать обряду, чтобы была проведена метафорическая работа по взвешиванию сердца, после чего, как я предполагаю… Нет, я ничего не могу предполагать, могу лишь изложить то, чему я был свидетелем, когда астральная и физическая плоскости столкнулись и метафора зримо и ощутимо проявилась в конкретном человеке, американце Тамблти.